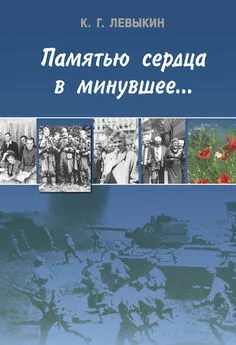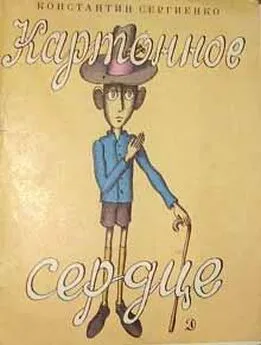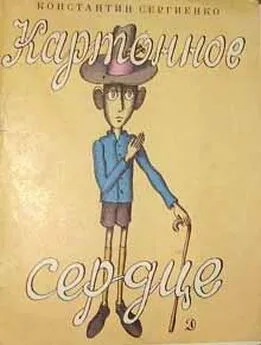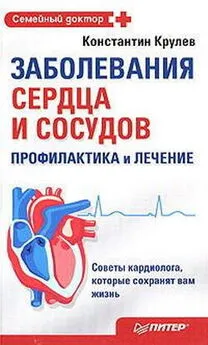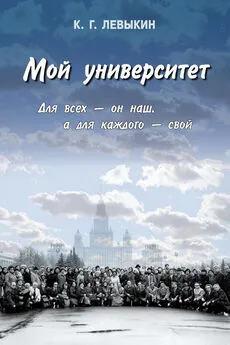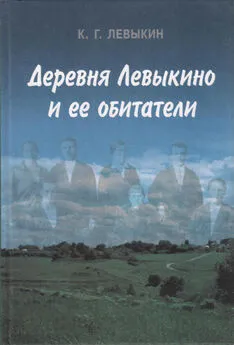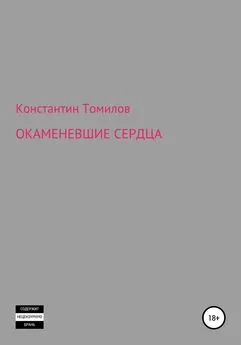Константин Левыкин - Памятью сердца в минувшее…
- Название:Памятью сердца в минувшее…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Знак»
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-9551-0012-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Левыкин - Памятью сердца в минувшее… краткое содержание
Вторая часть книги посвящена воспоминаниям о Великой Отечественной войне, которую сам автор прошел солдатом. Свою солдатскую службу он начат добровольцем, участвовал в обороне Москвы, обороне и освобождении Северного Кавказа и Кубани. Войну автор закончит сержантом Отдельной мотострелковой дивизии им. Ф. Э. Дзержинского, в которой ему пришлось служить после боев на Кубани В составе парадного расчета этой дивизии 24 июня 1945 года старший сержант Левыкин принимал участие в Параде Победы на Красной площади.
Всему этому автор книги, историк, профессор К. Г. Левыкин дает объяснение и оценку.
Памятью сердца в минувшее… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
За два-три года до войны холостяцкие пристрастия друзей сменились совсем другими заботами. Они вдруг почти одновременно женились и перешли на оседло-семейный быт с повседневными обязанностями отцовства. У более молодых – Петра Федосеевича и Николая Алексеевича – родились свои дети, а Сергей Алексеевич стал отцом приемного сына – ученика нашей школы. Но особенно заметно приосанился и по-мужски остепенился Петр Федосеевич. Он закончил учебу в пединституте, в школе стал завучем начальных классов и выглядел теперь более солидно. Однако для всех он оставался общим Пер-Федосеевичем. А для нас, ставших накануне войны старшеклассниками, он стал старшим товарищем. С нами, как с равными, он теперь здоровался за руку. Он всегда был в курсе наших учебных дел, давал советы, обсуждал, как со взрослыми, школьные проблемы и тревожные события предвоенной жизни страны. В первый понедельник начавшейся войны почти все старшеклассники, только что сдавшие последние экзамены, с утра пришли в школу. Этот день оказался последним днем встречи с Петром Федосеевичем. Мы увидели его стоящим на ступеньках лестницы в директорском вестибюле, и впервые за время нашего школьного знакомства Пер-Федосеич удивил нас своим необычным растерянным видом. Мы ожидали от него уверенных напутствий, а услышали печальные слова прощания. Не скрою, нас это разочаровало. Но где нам было понять состояние отца перед вечной разлукой с только-только начинающим жизнь сыном. На следующий день Петр Федосеевич Радченков ушел на призывной пункт войны, с которой он не вернулся.
В те же первые дни войны на фронт ушел и Николай Алексеевич Ратников, учитель математики, преподававший этот предмет во время нашей учебы в восьмом и девятом классах после Владимира Андреевича Кладкового. Но в моей памяти он оставил несколько иные следы. Я уже отмечал, что смену преподавателя по математике мы переживали с нескрываемой обидой. Мы действительно не скрывали этого чувства. С самого начала знакомства нам очень не понравился внешний вид нового учителя не только потому, что он был некрасив и неопрятен, а больше потому, что очень мало в его облике было мужских качеств. Шел он какой-то вихляющейся походкой, склонив голову набок и не по-мужски виляя задом. Челюсти у него были с неправильным прикусом. Когда он говорил, обнажались крупные желтые зубы, за которыми не умещался язык, и казалось, что рот его был полон горячей каши. А когда он молчал, то челюсти его все время двигались, словно жевали жвачку. Нам трудно было не заметить этих дефектов во внешности особенно тогда, когда он очень немужским голосом объяснял нам урок. Это мешало нам вникать в суть этих объяснений. Однако со временем мы привыкли к новому учителю. И, справедливости ради, скажу, у Николая Алексеевича я научился решать задачи по геометрии, уменью применять к решениям знание теорем, аксиом, функциональных и алгебраических зависимостей и отношений. И несмотря на это, антипатия к учителю так и не была преодолена в нашем классе. Мы устраивали ему всякие каверзы, уходили с уроков. Однажды в ожидании учителя, запаздывающего после звонка, кто-то из нас выглянул за дверь и увидел, что Николай Алексеевич шел медленно по коридору, ведя рукой по стене. Он был пьян. Потом еще несколько раз он приходил в класс под порядочной «мухой». В такие дни он ставил всем пятерки.
А однажды мы узнали, что Николай Алексеевич женился на бывшей нашей классной руководительнице, Полине Дмитриевне. Нам было опять обидно, ибо мы не могли понять, почему она выбрала себе такого мужа. Не дано нам было тогда понимать это, когда у женщины, может быть, и выбора-то не было. А она тогда уже была в возрасте, за невестиными пределами, судьба уже больше ничего не могла ей пообещать. Все равно мы были в обиде за нее на нашего математика. А Полина Дмитриевна была счастлива. И в Николае Алексеевиче мы скоро заметили перемены. Он стал ходить в чистых рубашках, в отглаженном костюме. За год до войны у него тоже родился ребенок. Не помню только, кто это был – мальчик или девочка.
На второй день всеобщей мобилизации Николай Алексеевич ушел на фронт, но ему повезло: в 1945 году он вернулся с войны. Однажды в 1947 году я встретил его около нашей школы вместе с учителем физики и его товарищем по кавказским путешествиям Сергеем Алексеевичем Ивановым.
Среди всех учителей двести семидесятой школы на особое место я ставлю учителя физики Сергея Алексеевича Иванова. Кое-что я уже успел о нем рассказать, но все это было не главное. Неглавной в этом человеке была его специальность учителя физики. Он не делал культа из своего предмета, не увлекал нас в занимательные тайны его законов и экспериментов, хотя и преподавал его профессионально, на достаточно высоком уровне собственных знаний. В молодости он учился в реальном училище и до начала Первой мировой войны едва не успел закончить Московское высшее техническое училище. Полученных знаний ему оказалось достаточно, чтобы после окончания той войны, в которой он участвовал с начала и до конца, стать школьным учителем по физике и математике. Но в школе он стал не только преподавателем этих предметов. Он был первым человеком, который приобщил нас к миру искусства, научил нас не только ходить в театр, но и познакомил с тайнами театрального действия, перевоплощения в образы русских героев, чем способствовал более глубокому пониманию русской литературной классики, да и событий русской истории. Все это мы получали от него параллельно со знанием физических законов в учебном классе физики во время его коротких, ярких и увлекательных отступлений от предмета в свои собственные воспоминания об увиденном в жизни и в театре, о прочитанном и пережитом. Сергей Алексеевич был удивительно привлекательным, интересным, очень общительным со своими учениками, очень культурным и воспитанным человеком. Но в самом начале нашего знакомства учитель удивил нас своим необычным, очень занятным видом. Он был весьма подвижным мужчиной средних лет и чуть ниже среднего роста, круглым и упругим, как футбольный мяч. Фигура его состояла из огромной и круглой, как арбуз или глобус, головы на круглом, как бы накачанном воздухом, туловище. Его круглое туловище с короткими руками, одетое в кургузенький, не сходящийся на животе пиджачок, стремительно двигалось на одетых в коротковатые брючки ногах. Сергей Алексеевич зимой и летом ходил в холодных полуботинках, которые в пятках были стоптаны на разные стороны. Таких же удивительно подвижных и круглых человечков я тогда, в детские годы, увидел на иллюстрациях к «Посмертным запискам Пиквикского клуба» Диккенса и до сих пор сохранил уверенность в том, что Сергей Алексеевич вписался бы в этот замечательный человеческий ансамбль не только своим внешним видом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: