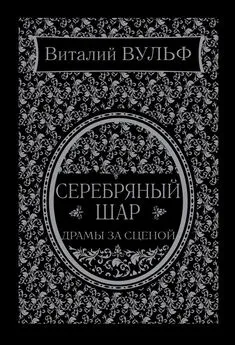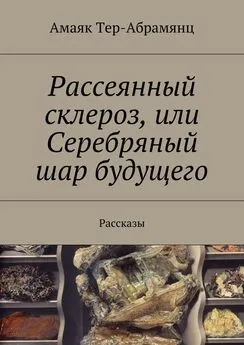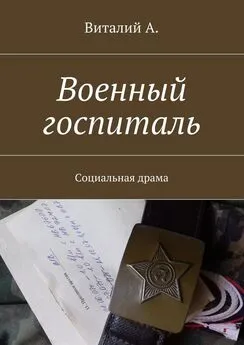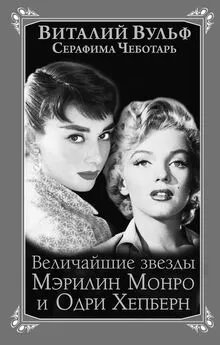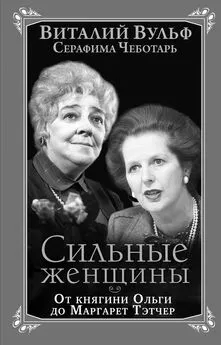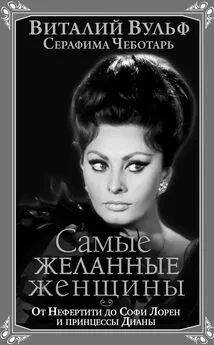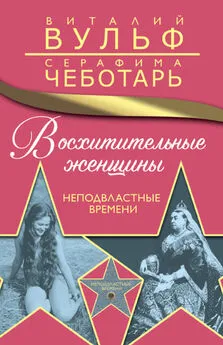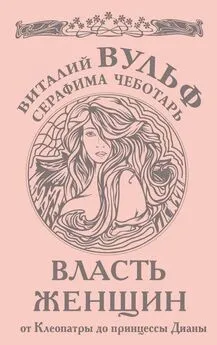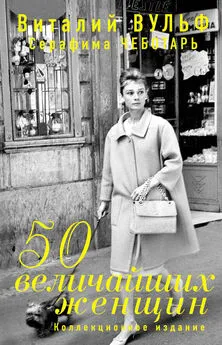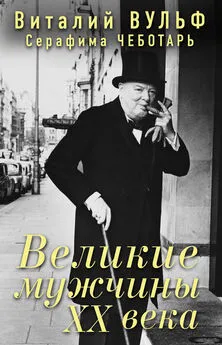Виталий Вульф - Серебряный шар. Драма за сценой
- Название:Серебряный шар. Драма за сценой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Яуза
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-85291-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Вульф - Серебряный шар. Драма за сценой краткое содержание
В этой книге вы найдете не только биографии великих артистов, памятные миллионам телезрителей по авторской программе Виталия Вульфа «СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР», но и личные воспоминания знаменитого телеведущего – о времени и о себе, о незабываемых людях, с которыми ему повезло общаться, о встречах и разлуках, подарках и ударах судьбы.
«Напрасно говорят, что время всё исцеляет. Конечно, что-то зарубцовывается, но иногда старые раны начинают ныть, и думаю, что эта боль умирает только с человеком…»
Но, несмотря на разочарования, которых «было немало», эта книга – не сведение старых счетов, а признание в любви – к жизни, к прошлому, к искусству и людям искусства, ставшим гордостью русского театра и мировой культуры.
«Детство и театр спасали меня на всех жизненных дорогах…»
«Ничего не проходит бесследно, и всё, что мы проживаем, остается в нас, на нас, и грим прожитого лежит на лицах…»
Серебряный шар. Драма за сценой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я очень когда-то любил Инну Соловьеву, очень ценил ее как редкого знатока русского театра, ценю и теперь, часто думаю о ней с любовью и нежностью, зная ее многие замечательные человеческие качества и совсем нелегкую жизнь. Берегу написанную ею от руки рекомендацию, когда я вступал в Союз писателей: «Для меня честь и удовольствие – подать свой голос за прием в Союз писателей Виталия Яковлевича Вульфа. Как мастер блистательного устного рассказа о людях мирового искусства и как талантливый пропагандист современной драматургии В.Я. Вульф не нуждается в дополнительных рекомендациях: мало кто сегодня так широко известен и так искренне любим публикой… Если бы за телевизионными рассказами Вульфа не стояли его книги и его переводы, не стоял бы долгий и талантливый опыт литератора, – успех этих рассказов был бы немыслим…» Не избалованный столь незаслуженно высокими оценками своего труда, я на всю жизнь благодарен Инне Соловьевой, но… простить ей мхатовскую энциклопедию не могу. Может быть, потому, что старый МХАТ мне особенно дорог, дорог с детства, с ранних лет жизни.
Я до сих пор вспоминаю, как в той первой поездке в Москву в июне 1946 года отец повел меня на «Вишневый сад». Раневскую играла Попова, Гаева – Соснин, Аню – Ирина Гошева, Лопахина – Блинников. Спектакль был старый и никакого впечатления не произвел. Уже студентом первого курса МГУ я вновь попал на «Вишневый сад» и увидел в роли Гаева Качалова, Лопахина играл Борис Георгиевич Добронравов. Лопахин и был главным действующим лицом спектакля. В нем запомнилось все: и его осторожные, почти робкие интонации, когда он разговаривает с Раневской, словно боясь прикоснуться к чему-то хрупкому и драгоценному, и его раздражение Гаевым, и его бесплодные попытки спасти вишневый сад. Эмоциональный накал Добронравова вызывал спазмы сочувствия. Было ощущение потери, а не победы, когда Лопахин объявлял, что он стал хозяином вишневого сада. Современный нерв пронизывал его игру. Качалов, великий Качалов в роли Гаева рядом с ним выглядел усталым человеком. Мятежности, пронизывающей Добронравова, в нем не было. Так казалось мальчику семнадцати лет, оглушенному величием Художественного театра. Остались в памяти Шарлотта – Софья Васильевна Халютина и наглый Яша, которого блистательно играл Владимир Белокуров.
Слишком большое место занимал МХАТ в моей жизни и жизни самых близких мне людей, чтобы я мог равнодушно относиться к тому, как складывается сегодня его новая историческая биография. Вот совсем недавно мне нужно было найти сведения об актрисе МХАТа, очень красивой женщине, игравшей небольшие роли, Любови Варзер. Она была женой Лемешева, ее имени в энциклопедии нет. Как нет имени замечательного актера, мастера эпизодических ролей, Николая Ларина, прославившегося в «Плодах просвещения» и сыгравшего на премьере в «Трех сестрах» роль Федотика. Как нет фамилии Клементины Ростовцевой, много игравшей и играющей теперь на сцене МХАТа имени Горького. Список – если назвать всех неназванных – будет очень велик, и он свидетельствует только о том, что произошло предательство старого МХАТа, воспитавшего целые поколения людей, чьи лица светлели, когда они заговаривали о спектаклях Художественного театра.
Конечно, эталонность МХАТа приняла драматический характер в послевоенные годы борьбы с космополитизмом, его канонизированность становилась стеснительной – всё так, но память хранит драгоценные воспоминания и об Андровской в роли миссис Чивли в «Идеальном муже», и о самом спектакле, где леди Бэзилдон играла красавица Любовь Варзер, и о «Плодах просвещения» с Шевченко и Топорковым, Степановой и Кторовым, Станицыным и Кореневой. И незабываемым Николаем Павловичем Лариным, которому места в новой исторической энциклопедии не нашлось, – скромным человеком, блистательно игравшим в этом спектакле небольшую роль посыльного.
Неуважительный текст написан в энциклопедии об Анастасии Георгиевской, замечательной актрисе, гениально игравшей Наташу в «Трех сестрах» и уже сравнительно недавно, в 80-х годах, – Головлеву в инсценировке романа Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы», поставленной во МХАТе Львом Додиным. После раздела МХАТа на два театра Георгиевская оказалась в труппе у Татьяны Дорониной.
В этой неудачной, постыдной энциклопедии не оказалось места не только для артистов МХАТа, но и для многих спектаклей, когда-то волновавших людей. «Осенний сад» Лилиан Хеллман, с его лирической атмосферой, пронизывал ощущением внутренней неприкаянности. В спектакле играли Попова, Кторов, Массальский, Андровская, Пилявская, Гошева, Ершов, молодые тогда Калинина и Градополов. Главную роль Нины Динери играла Степанова. Тема утраты иллюзий решалась в спектакле с чуть заметным трагикомическим оттенком. Из исполнителей сегодня остался в живых один Константин Градополов, недавно отметивший свое 75-летие. Но об этом спектакле в энциклопедии нет ни слова. Ее создатели умудрились не упомянуть и о «Дяде Ване», хотя заглавную роль играл в нем Добронравов.
А я помню, как студентом первого курса юридического факультета – где не хотел учиться и куда поступил только потому, что папа считал, что надо сначала получить образование, – каждый вечер бегал во МХАТ…
Папа и Белла посылали мне деньги из Баку, стипендия была небольшая, и все, что у меня было, я тратил на покупку билетов у спекулянтов.
Однажды мне повезло. Был день денежной реформы, по юности и непониманию она меня тогда совсем не занимала, и я был счастлив, что в этот день в кассе МХАТа без очереди можно было свободно купить билет на «Дядю Ваню». Я сидел во втором ряду, в этот вечер театр не был полон, такое во МХАТе я видел впервые. На сцене были Тарасова – Елена Андреевна, Ливанов – Астров, Литовцева – Мария Васильевна и Добронравов – дядя Ваня.
Спектакль ставил Кедров. Критика отнеслась к нему прохладно, но Добронравова забыть нельзя. Сила его психологически тончайшей игры была столь велика, что, уже став взрослым человеком, я как-то рассказал Ефремову о своем впечатлении, и оказалось, что Олег Ефремов тоже был страстным почитателем Добронравова. Из его уст услышать высокую оценку актерской игры было редкостью, но Добронравов был для него идеалом актера. А в томе энциклопедии, посвященном спектаклям, нет «Дяди Вани». Так все и уходит в небытие…
Когда недавно, уже в табаковские времена, я смотрел во МХАТе «Кабалу святош», где первый акт привычно тонко играет Ольга Яковлева (во втором – на сцене так темно, что ее не видно), а Олег Табаков драматично ведет последнюю сцену, я думал только о том, как театр потерял чувство ансамбля. Все было разностильно, режиссерский замысел неясен (спектакль ставил Адольф Шапиро), и само понятие «мхатовский спектакль», когда-то бывшее синонимом совершенства, что казалось аксиомой от позапрошлого века, кануло в прошлое. Темные тени официального омхатовления искусства, появившиеся еще на рубеже 50-х годов прошлого века, привели за прошедшие десятилетия к таким переменам, что мхатовская традиция исчезла, и прошлое великого театра считается прекраснодушной легендой. Олегу Табакову очень нелегко вести театр, разрушенный, как некогда Карфаген; он пытается заполнить зрительный зал и строит репертуар по законам коршевского театра.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: