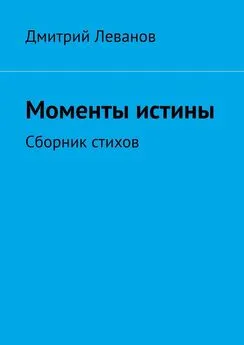Дмитрий Шульгин - Музыкальные истины Александра Вустиса
- Название:Музыкальные истины Александра Вустиса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Директмедиа
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4458-3781-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Шульгин - Музыкальные истины Александра Вустиса краткое содержание
Музыкальные истины Александра Вустиса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Это на каком курсе?
– У меня консерватория ведь разделилась надвое как бы. Я поступил в 1961-м году, а в 1962-м пошел в армию на три года. Правда, потерял я только два года, потому что последний – третий – служил уже в Москве стараниями Фере. И надо отдать ему должное – это был человек, который исключительно много доброго сделал лично для меня. И именно он добился, чтобы меня перевели в духовой оркестр Академии химзащиты.
– А на чем вы там играли?
– На «альтушке». Кстати, это было полезно. Я узнал немножко технику вентильной игры. Это примитивнейший, заполняющий средние голоса фактуры в духовом оркестре, инструмент. Во всяком случае, год я провел в Москве и ходил снова в консерваторию. Но это был другой уже коллектив. Раньше со мной учились Банщиков, Буцко, Юра Глухов, Дмитриев, еще кто-то. А когда я снова попал на второй курс после двух лет армии, то там я подружился больше всего с Аликом Рабиновичем, которого знал еще у Фрида.
– А кто у вас преподавал инструментовку?
– Основы я проходил у Николая Петровича Ракова – такая чисто академическая инструментовка, выстроенная, вероятно, в соответствии со школой Римского-Корсакова, со всеми этими его балансами: на одну валторну – два деревянных, или две валторны на трубу и так далее – все это было мне важно, конечно, потому что создавало ту область, от которой, во-первых, можно было отталкиваться, отходить, а потом ведь есть и вещи, которые все равно остаются объективными – нравится вам это или нет: мы не можем отменить обертоновый ряд, мы не можем отменить своевольно закон тоники – доминанты. Мы этого не можем! Он сильнейшим образцом действует не только у того же Бетховена, например, и какого-то другого композитора его времени, но и во всей последующей истории музыки. Это, так сказать, «всемирное тяготение».
– А кто гармонию вел?
– Гармония как-то быстро промелькнула… Может быть, с Рукавишниковым? Да! Был все-таки Рукавишников. Я сейчас вспомнил как ходил к нему домой, показывал ему задания свои. Но с самой гармонией проблем не было. Я помню, что Рукавишников просто в восторг приходил от моих гармонических задач (я говорю не хвастаясь, потому что в теории музыки вообще о себе не очень высокого мнения). Но с гармонией и сольфеджио всегда шло более чем легко. Вот, кстати, заканчивал я консерваторию и был такой коллоквиум… или не коллоквиум, – в общем какой-то «собирательный» музыкальный экзамен. Надо было вдруг ни с того ни с сего, хотя уже прошло лет пять, сымпровизировать гармоническую, довольно мудреную последовательность. Так мне это ничего не стоило. Я помню, что Рукавишников остался мной доволен.
– Хочу спросить о вашем отношении к академической гармонии. Насколько она оказалась для вас как для композитора полезной? Только искренне, если можно…
– Я со стыдом сейчас вспоминаю, что по окончании курса гармонии сказал Рукавишникову, что это никому не нужно (или что-то в этом роде). А он сказал: «Ну, и замечательно». Но сейчас я бы этого не сделал. И не только из пиетета перед Рукавишниковым. Меня до сих пор волнует проблема функциональности в гармонии. Только мне кажется, она решается в современной музыке совсем на другом уровне, а, следовательно, бригадный учебник, по которому нас учили, он не давал возможности понять природу функциональности и, тем более, в музыке другого времени. Но, наверное, какая-то польза даже в таком академическом курсе для меня все-таки была.
– А что по-вашему дает музыканту-композитору или исполнителю решение задач по гармонии?
– Я не знаю, что оно дает. Задачи ничего не дают, они просто вас как кролика дрессируют. Ведь ничего музыкального в преподавании гармонии в тот период, когда я учился, не было. Понимаете, система обучения была очень бедная, в сущности. Все держалось на каких-то редких людях. Я не знаю (мне сейчас трудно говорить), но я должен повторить чужие слова, что талант все равно обходит препятствия, если не здесь, то в другом месте – он как ручеек. Понимаете? Возьмите, например, ту ситуацию, в которой я находился. Собственно, весь процесс обучения композиции у Григория Самуиловича был интуитивным. Он не занимался тем, чем занимались некоторые другие педагоги-композиторы. И замечательно это было, и слава Богу! И, если бы не Фрид, я бы не был, скорее всего, композитором. Но, если нужно ответить честно на вопрос: нужна ли мне школьная гармония была – я считаю, что если бы ее не было – это было бы прискорбно, потому что я все равно пришел бы к ее законам, но какими-то другими путями, то есть к каким-то вещам, к которым все равно надо было прийти. Пусть это не самый «остроумный» путь, так сказать, – бригадный учебник, но, в конце концов, кроме него еще был и гармонический анализ, то есть та же гармония, но на более высоком уровне. На самом деле, ведь такой анализ, как вы понимаете, это к тому же и изучение формы. И я абсолютно убежден, что это относится и к венскому классицизму, и ко всем другим эпохам. Сам я постоянно пытаюсь для себя решать те или иные гармонические проблемы только вместе с формой. И ко мне эти проблемы приходят через мои серийные ряды. Это просто поразительно! Когда я написал первое свое двенадцатитоновое сочинение в 1973-м году, я был потрясен тем, что сонатная форма на этой гармонии сложилась сама собой.
– Из моих анализов ваших сочинений 1980-х и более поздних годов следует, что вы пишите исключительно на один и тот же серийный ряд.
– Совершенно верно! Я этого и не скрываю. В моей жизни было вообще всего только три ряда. Но первые два я использовал как бы единожды, а, начиная с 1975 года, я всегда работаю только с одним. И, я убежден, что это происходит не от того совсем, что я бы назвал «ленью», то есть что мне каждый раз не хочется что-то изобретать. Нет! Просто я нашел поле, на котором…
– 12 миллионов комбинаций.
– Да! Но помимо того, что там 12 миллионов комбинаций, я понял, что это вообще бесконечность, что это целый космос, и что ничего не нужно изобретать каждый раз. Там все есть! Я могу назвать десятки своих разных совершенно сочинений на этот «бесконечный» ряд. (О нем стоит потом поговорить даже отдельно). И у меня, естественно, каждый раз совершенствуется работа с ним, но это особый вопрос…
– А когда вы впервые применили в своих сочинениях додекафонию?
– Я бы не решился свою технику называть додекафонией. Если стоять на строгих теоретических позициях, то я, наверное, совсем не «додекафонный композитор».
– То есть, скорее, «серийно-свободный»?
– Тоже нет. Я просто очень нуждаюсь в каких-то ограничительных законах. Мне кажется – это то, что на самом-то деле только и дает подлинную свободу. Понимаете? Бескрайние возможности они парализуют (и об этом Стравинский очень хорошо говорил). А свобода появляется для меня на основе только нескольких строительных элементов, то есть на основании очень жесткого в сущности ограничения. Меня оно радует, оно дает возможность бесконечно комбинировать эти элементы. Вот примерно так, если угодно. Мой опыт, конечно, скромен. Я говорю это, не кокетничая. Я пишу медленно, очень сосредоточенно, иногда трудно и, как правило, долго. Но я оттачиваю каждую свою работу, я за нее отвечаю – иначе не умею.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
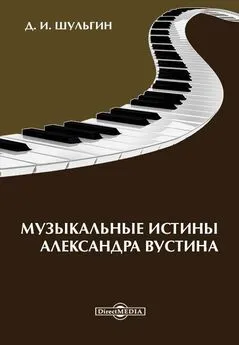
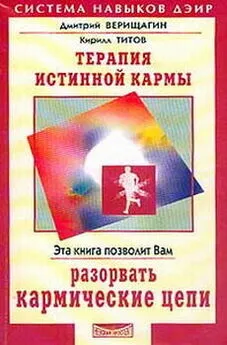
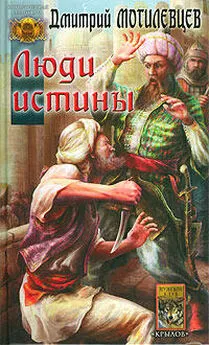


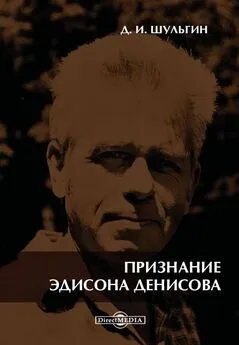

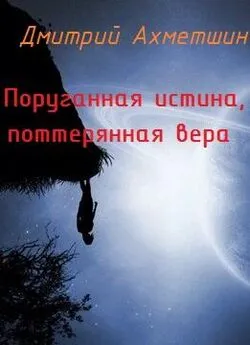
![Дмитрий Серебряков - В погоне за истиной [СИ]](/books/1061331/dmitrij-serebryakov-v-pogone-za-istinoj-si.webp)