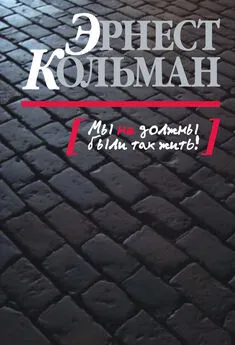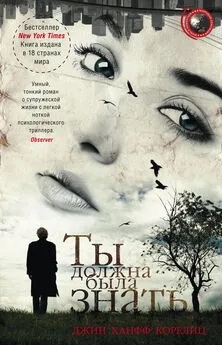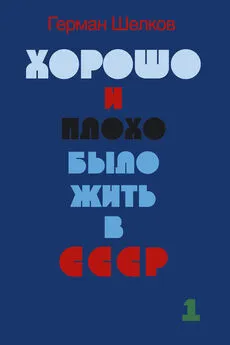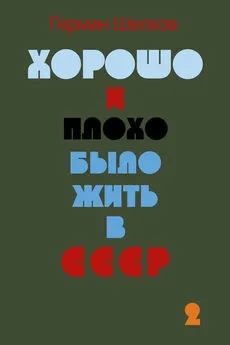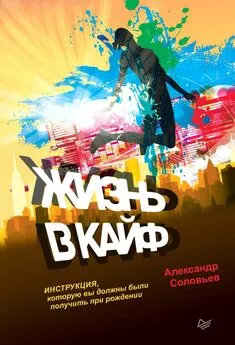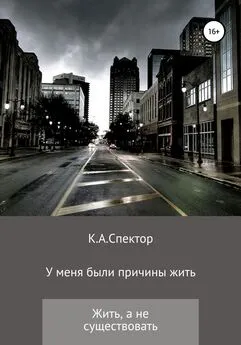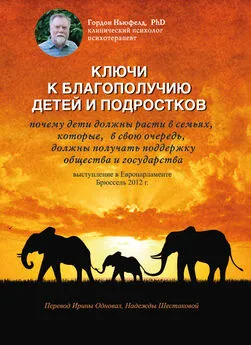Эрнест Кольман - Мы не должны были так жить!
- Название:Мы не должны были так жить!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Спорт
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-904885-36-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрнест Кольман - Мы не должны были так жить! краткое содержание
Мы не должны были так жить! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тогда там, в Царицыне, мы втроем – Цукерман, Натан Фельзенбах (другой вольноопределяющийся) и я, без конца обсуждали военное положение, строили догадки о глубоких причинах войны, а главное – о ее окончании и последствиях. Здесь мы каждый день узнавали последние новости, конечно, в освещении русских газет, столь же одностороннем, лживом, как и в австрийских и германских, во французских или английских легальных газетах. А о существовании нелегальной прессы мы тогда и понятия не имели.
Я все-таки не забывал о своем не слишком крепком социализме и марксизме, развивал мысль, взятую на прокат у Штрассера, что национальное освобождение должно совпадать с социальным. А в полемике с Натаном я ссылался на библейское изречение «Сион будет освобожден правосудием и достигнет равноправия справедливостью». Но толковал его почти по-толстовски: средствами насилия нельзя добиться свободы, они непременно приводят к новому насилию, к порабощению.
Наша тройка в Царицыне оставалась недолго. Ее, как и всех вольноопределяющихся неофицеров, отправили отсюда с первым же транспортом. Этого добились у русского командования некоторые из «наших» пленных офицеров, возмущенные подобным нарушением священных кастовых законов. И вот мы поехали, но не поездом. Вскоре после открытия навигации по Волге, когда в нашем лагере слышались заманчивые гудки пароходов, нас вместе с конвоем погрузили на один из них – конечно, не в первый класс, а в трюм, и повезли «вниз по матушке, по Волге». Пароход был большой, вместительный, веселый, нарядный. Пароходное общество, которому он принадлежал, называлось «Самолет». Настроение у нас было, как и положено у «туристов», весеннее, приподнятое. Конвоиры – астраханские казаки с желтыми лампасами – относились к нам либерально.
Народ ехал самый разношерстный, – от немногих расфуфыренных богатых дамочек и щеголеватых военных, до толпы пассажиров третьего класса – смеси разных народностей, многие в каких-то бурых лохмотьях, хуже наших. Настоящий поперечный разрез классовой структуры российского общества. Были тут и восточное люди, как говорили, персидские купцы. Один из них, толстый-претолстый, в цветном халате, важно восседал один на верхней палубе и попивал чай из громадного самовара. А закусывал сливочным маслом с сахарным песком, поочередно набирая то и другое ложечкой. Я долго с любопытством наблюдал за ним из своей преисподней.
Так нас привезли в Астрахань, где вблизи от города, в песках, находился большой лагерь с несколькими рядами деревянных бараков, обнесенный, как и все лагеря, высокой стеной с колючей проволокой и с башнями-каланчами. Лагерь был солдатский, но в нем имелся и офицерский барак, где офицеры жили своей особой жизнью, почти совсем не общались с нами. Охрана была здесь смешанная, астраханские казаки и ратники, за небольшим исключением все калмыки. Порядки тут были вполне нормальные, то есть не донимали люди, но насекомые, конечно, да. Самыми страшными нашими врагами были комары и москиты, они не были безобидны, приносили малярию и желтую лихорадку. Болели многие, болели тяжело и умирали, несмотря на уход русских, и своих, пленных врачей.
Особенно много болели пленные турецкие солдаты, и смертность среди них была очень высокая. Помню жуткое зрелище – прибыл новый транспорт – одни турки (тогда я впервые увидел турок), и почти все безногие, на костылях. Это были в большинстве анатолийские крестьяне, попавшие в плен под Эрзерумом. Русские послали их на север, строить Мурманскую железную дорогу, которую они устлали своими костьми, по Некрасову. Непривычные к крутой зиме Заполярья, к питанию без витаминов, они быстро отмораживали ноги, болели цингой, появилась гангрена, им пришлось ампутировать конечности. И тех, кто выжил, таких калек, послали «на поправку» в «теплые края», сюда в Астрахань, где их ослабевший организм легко поддавался микробам.
Я дружил с ними, выучил от них несколько самых необходимых для общения турецких слов и фраз. Конечно, мое знание арабского шрифта и тут сыграло свою роль. Я им читал и под диктовку писал их письма, не понимая языка, подобно тому, как в Самаре татарам.
В астраханском лагере, где я пробыл от весны до конца лета 1916 года, среди пленных образовались кружки занимавшихся самообразованием. Не все проводили время в пустом безделье. Существовал и небольшой кружок любителей математики. Я занимался с ними, прочитал им целый курс дифференциального исчисления. Но когда мы должны были приступить к интегральному, очередной транспорт разрушил наши занятия. Из-за отсутствия бумаги (ее, правда, можно было купить, но нами ценилась в буквальном смысле каждая копейка) и, конечно, классной доски, все излагалось на песке, том самом, на котором Архимед чертил свои круги. И разумеется, все примеры и задачи пришлось придумывать самому. Провел я и несколько бесед по астрономии.
Некоторые из нас, в том числе и я, отваживались и на художественное творчество. На одну копейку (как я приобрел деньги, скажу дальше) я купил ученическую тетрадь для чистописания, с косыми линейками и вписал туда, именно косо, – так экономней, – печатными буквами сочиненный мной фантастический роман-шарж «Артаскоп». Написал я его по-немецки, на языке, на котором мы общались, и телеграфным, крайне сжатым, стилем.
Но в лагере пришлось заниматься и самообслуживанием. Я научился кое-как чинить свою одежду и даже обувь, а также и брить – не очень первоклассно, «опасной» бритвой головы. Не скажу, что я это делал по законам искусства, но во всяком случае за эти мои достижения меня ни разу не побили. Очень большой интерес у меня вызывали ратники-калмыки. Хотя это было не легко, – запас русских слов, которыми они располагали, был невелик, – я все же сумел войти в доверие к некоторым из них, и мы часто подолгу беседовали. А с одним стариком, как все они, с безбородым «бабьим» лицом, как говорили недолюбливавшие калмыков русские, мы настолько сблизились, что он однажды показал мне амулет против «злых духов», который он носил в кожаном футлярчике, подвязанном в подколенной ямке левой ноги. Но показать содержание амулета он отказывался, ведь талисман потерял бы тогда свою магическую силу! Были у него и деревянные четки, которые он перебирал, произнося при этом несколько слов, как мне казалось в стихах.
С этим же ратником я несколько раз побывал в городе, где было что посмотреть. Я уже не говорю про астраханский кремль и разные церкви – памятники старорусской и византийской архитектуры, – но весь облик этого портового города производил на меня крайне необычное впечатление.
Мне казалось, что одной ногой я уже нахожусь где-то в сказочной Персии. Один раз я увидел настоящее чудо – громадную рыбину, белугу, которую везли одну на телеге! «Мой» калмык как-то взял меня с собой в свою кумирню – стоящее на одной из окраин, среди других жалких калмыцких хибарок, глиняное строение в форме кибитки, в глубине которого находилась нескладная статуя сидящего Будды. Никаких служителей культа – не знаю, буддистского или ламаистского – здесь не было, в полумраке этого «храма» мы находились с божеством одни. Калмык вынул из глубокого кармана шинели бутылку крепкого, пьянящего кумыса, раскупорил ее и осторожно вылил несколько капель к ногам идола, бормоча при этом что-то вроде заклинания. А потом допил сам все, что оставалось в бутылке, блаженно причмокивая. Таким образом, я один раз в жизни присутствовал при обряде жертвоприношения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: