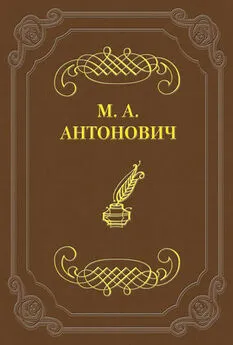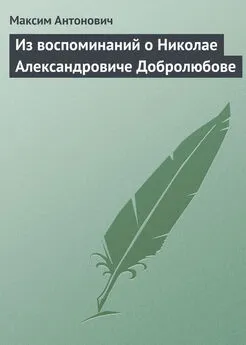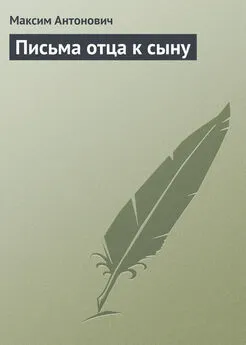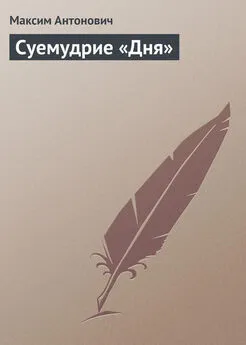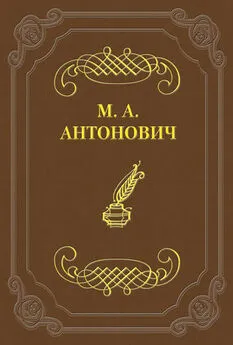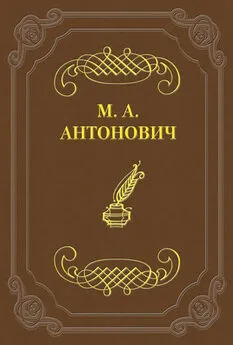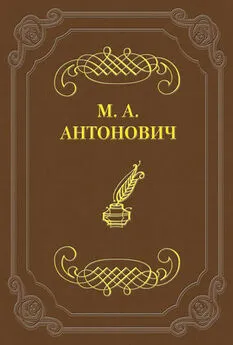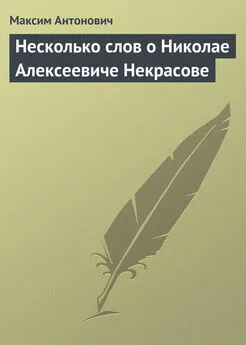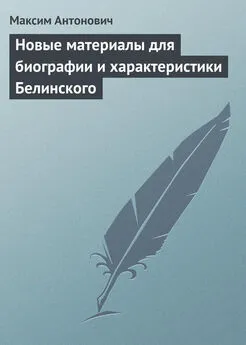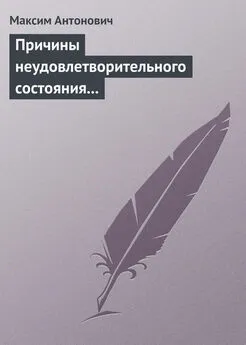Максим Антонович - Промахи
- Название:Промахи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Антонович - Промахи краткое содержание
Промахи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Далее г. Зайцев обращается к нам еще с такими недоумениями: «Что касается извинений, которых требует от меня г. Сеченов через г. Антоновича (это неправда, этого не было в нашей статье), то я, право, в недоумении, какого рода они могут быть, кроме отказа от своей ошибки? Но г. Сеченов, очевидно (?), требует еще чего-то, потому что у г. Антоновича отказ требуется сам по себе, а извинение само по себе. Пусть г. Сеченов или г. Антонович объяснят мне, чего им еще от меня нужно, какой эпитемии?» Нам лично, как вероятно и г. Сеченову, решительно ничего не нужно от вас; вашею невежественною статьею вы оскорбили не нас, а ваших несчастных читателей, которым вы внушили превратные понятия и которых вы учили варварской жестокости. Поэтому вы должны извиняться не перед г. Сеченовым, а перед его статьею, которую вы не поняли и, однако, взялись исправлять и опровергать перед вашими читателями, которых вы ввели в страшное заблуждение. Что же касается до эпитемии, то налагать ее на вас мы не имеем права и не желаем; прибавим только, что лучшею эпитемиею, которую налагают на вас здравый смысл, польза ваших читателей и общее благо литературы, было бы исполнение следующей заповеди: не браться ни за одно дело, к которому вы неспособны, и не омрачать и без того уже омраченных и мизерных последователей ваших внушением им таких вздорных понятий, как гениальность Шопенгауэра, необходимость исправительных наказаний для философов, необходимость и польза рабства негров, случайность истории, ограничивание истории одними только войнами и проч. и проч.
Наконец г. Зайцев предлагает нам следующий сентиментальный вопрос: «Поэтому я решаюсь апеллировать к самому г. Антоновичу и просить его сказать мне откровенно: не преступил ли он в своей статье пределов полемики, которая могла быть ведена против меня, и неужели ни в статье моей: „Последний философ-идеалист“, ни в прочей моей литературной деятельности нет ничего, что бы могло оградить меня от оскорблений (?) с его стороны, подобных тем, которыми он осыпает меня?» На это мы ответим, что г. Зайцев придает слишком личный характер литературному делу; он воображает, что опровержение статьи есть личная обида для ее автора, а защищение ее есть комплимент ему и выражение личного чувства приязни; так, например, в нашем предположении, что он не читал самого Шопенгауэра, он видит намерение оскорбить его и говорит, что мы не должны были так оскорблять его во внимание ко всей его деятельности; опровержение статьи г. Сеченова тоже кажется ему оскорблением, за которое требуется извинение; наконец, за всю нашу статью он требует от нас какого-то удовлетворения и апеллирует к нам с чем-то и на кого-то. Если г. Зайцев понимает литературный спор таким личным образом, то он сильно ошибается, по крайней мере, относительно нас. В наших возражениях и опровержениях, равно как и в наших защищениях, мы имели в виду не личности, а мнения, высказываемые ими; если мы употребляем, например, фамилию г. Зайцева или другую, то это просто только как ярлык, как сокращенное название для известных мнений, которыми мы занимаемся. Вся наша статья против г. Зайцева со всеми ее подробностями вызвана была не желанием оскорбить его, а желанием восстановить в истинном виде те понятия, которые он исказил и обезобразил в своей статье; мы отстаивали и защищали не лично г. Сеченова, а те его верные взгляды, которые думал поколебать г. Зайцев; мы защищали эти взгляды не потому, что они принадлежат г. Сеченову, а потому, что на них делались нелепые нападения, и это доказывается тем, что мы же защищали Фихте и Гегеля, к философскому направлению которых мы относимся отрицательно. Таким образом прием, посредством которого г. Зайцев притянул к делу г. Сеченова, будто бы требующего извинений, есть просто подьяческое крючкотворство, которое не делает чести г. Зайцеву и не только не поправляет его дела, но еще более роняет его; и мы с своей стороны затрудняемся отвечать на апелляцию г. Зайцева, так как она неосновательна, не имеет предмета и жалуется на личные оскорбления, которых нет. Впрочем, если что-нибудь в нашей статье, и без всякого нашего намерения и вопреки нашему желанию, оскорбило г. Зайцева, то мы охотно просим у него извинения за это, не во внимание к его прочей литературной деятельности, а во внимание к тому действительно очень редкому и очень почтенному самообладанию, с каким он сознался в своих ошибках и отказался от них. – Что же касается до теоретического вопроса о том, может ли литературная деятельность ограждать от оскорблений, то для уяснения его мы советуем г. Зайцеву внимательно прочесть статьи гг. Благосветлова и Писарева, направленные против «Современника».
Теперь обратимся к «Нерешенному вопросу». Занимаясь «Нерешенным вопросом», мы имеем дело с целым «Русским Словом», которое заявило о своей полной солидарности с «Нерешенным вопросом», со всеми его подробностями, со всеми его нелепостями и плоскими выходками. Вообще «Русское Слово», не имея внутренней солидарности с самим собою и с своими частями, решилось хоть по наружности показывать самую неразрывную солидарность; главные деятели его из кожи лезут, чтобы отстоять и защитить друг друга, и делают это, действительно не жалея своей кожи и с убытком для себя; если один из них скажет даже очевидную нелепость, то другие непременно станут защищать ее, хоть бы они в душе и сознавали, что она действительно нелепость; иначе, воображают они, солидарности не будет между ними. И не одни только деятели «Русского Слова», но даже родственники их стремятся хоть чем-нибудь заявить свою солидарность с ним. Вся эта погоня за солидарностью представляет очень умилительное зрелище! Г. Зайцев со всевозможными натяжкам и болезненными усилиями защищает неправды г. Благосветлова; г. Писарев в свою очередь защищает г. Зайцева во всем, даже в его нелепом мнении о необходимости и пользе рабства негров, мать г. Писарева, г-жа Варвара Писарева, тоже защищает г. Благосветлова, не щадя при этом своего собственного сына и неразрывно соединяя его репутацию с репутацией г. Благосветлова, несмотря на всю рискованность такого соединения; «позорить Благосветлова, – говорит она, – и в то же время выгораживать Писарева – невозможно: или оба они – честные люди, или оба – негодяи». Чтобы еще более возвысить г. Благосветлова, г-жа В. Писарева печатно рассказала о великих заслугах его перед ее сыном, а стало быть, и перед всей русской литературой, оказывается, что г. Благосветлов не только был восприемником при перекрещении г. Писарева из эстетиков в нигилисты, но еще сам обратил и перекрестил его в нигилизм, и что г. Писарев и до сих пор еще ходит на помочах г. Благосветлова. Вот как повествует об этом г-жа Писарева: «В январе (1861 года) сын мой был еще эстетиком (?), в апреле он еще, по своей неразвитости, был способен входить в сношение с „Странником“, а в ноябре уже „Современник“ предлагал ему работу (?); дурно или хорошо то превращение, которое в нем совершилось (ужасно быстро оно совершилось, – менее, чем 9 месяцев), об этом я не говорю ничего; но факт состоит в том, что этим превращением он исключительно обязан г. Благосветлову…; поэтому сын и видит в г. Благосветлове не „прихвостня“, а своего друга, учителя и руководителя, которому он обязан своим развитием и в советах которого он нуждается до настоящей минуты». Вероятно, по совету этого учителя г. Писарев и взялся защищать «Нерешенный вопрос». Чтобы г. Писарев, подобно г. Зайцеву, не обиделся этим нашим предположением, мы объясним основания его; г. Писарев, как человек неглупый, кажется, мог бы понять те нелепости, которыми наполнен «Нерешенный вопрос», и мог бы сообразить, что защищать его поэтому нерационально и опасно для умственного достоинства; вследствие этого мы и думаем, что он вступается за «Нерешенный вопрос» не motu proprio, а по какому-нибудь постороннему внушению и, вероятнее всего, по влиянию его учителя и советника, г. Благосветлова. Впрочем, мы не выдаем нашего предположения за несомненное и допускаем его ошибочность. – Для точности мы заметим еще, что г. Зайцев нигде не заявлял о своей солидарности с «Нерешенным вопросом», и мы поэтому не можем сказать, одобряет ли он его вполне, или нет; очень может быть, что г. Зайцев до того ясно увидел всю вздорность «Нерешенного вопроса», что никак не мог сделать насилия над собою, чтобы похвалить этот несчастный «вопрос», и у него язык не повернулся, чтобы заявлять о своей солидарности с тем, что он в душе порицает; но, может быть, и то, что молчание г. Зайцева есть знак его согласия, а иначе он отказался бы от солидарности с «Нерешенным вопросом», как это сделал один из бывших редакторов «Русского Слова». Поэтому мы можем сказать вообще, не боясь ошибиться, что в «Нерешенном вопросе» сконцентрировано и олицетворено все «Русское Слово».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: