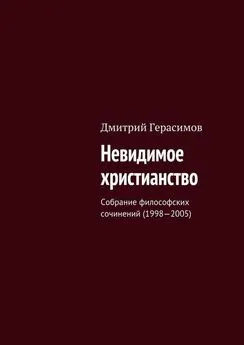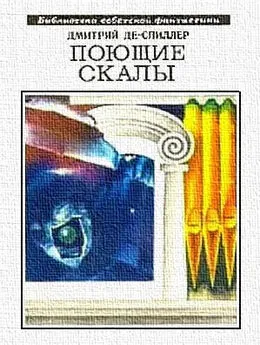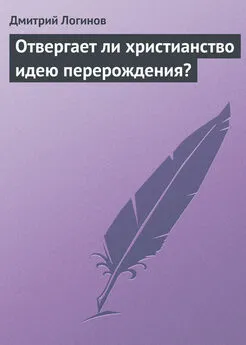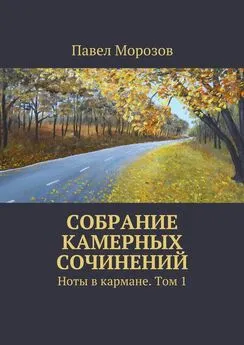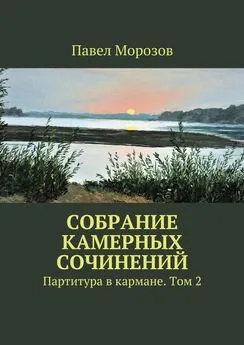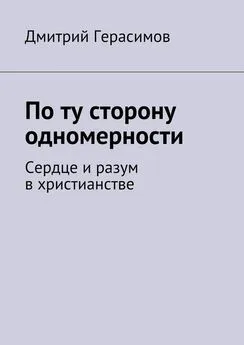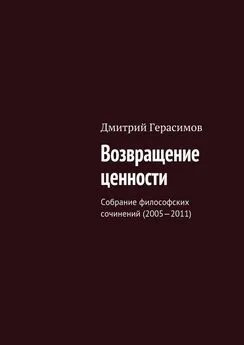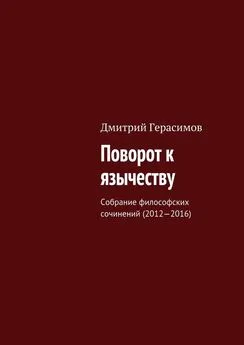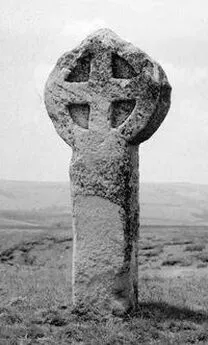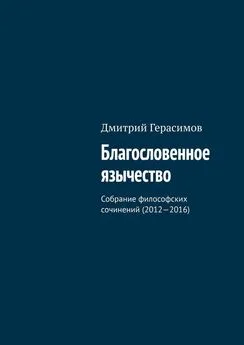Дмитрий Герасимов - Невидимое христианство. Собрание философских сочинений (1998—2005)
- Название:Невидимое христианство. Собрание философских сочинений (1998—2005)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:9785448332302
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Герасимов - Невидимое христианство. Собрание философских сочинений (1998—2005) краткое содержание
Невидимое христианство. Собрание философских сочинений (1998—2005) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Исторически, вопреки утвердившемуся в Новое время справедливому представлению о прямой зависимости нравственного прогресса человечества от развития форм государственной жизни, именно Новое время (с XV в. – начала формирования рыночных отношений) являет собой удивительную метаморфозу, совершившуюся в нравственно-правовом сознании человечества, когда появляется сам термин «правовое сознание» со своим особым, специфическим смыслом, и который в действительности означает не вытекающее из права торжество нравственности (со спонтанностью ее чувственно-жизненных проявлений, не сводимых к бытию-в-мире как необходимости), а, напротив, ее полное и окончательное замещение рационально незыблемым законом и правом в качестве последней онтологической реальности человеческого. В новой духовной ситуации перевернутого (обращенного на себя) мышления закон – теоретически и практически – становится не просто чертой, за которую разум не в состоянии переступить, не разрушив себя, но и последней реальностью, в принципе не допускающей непознаваемого, что уже в XX веке очень хорошо выразил Л. Витгенштейн в известном афоризме «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» 143 143 Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М.: Гнозис, 1994. С.73.
. В итоге, сведенное к бытию-в-мире человеческое бытие оказалось ограниченным правом вне всякого отношения к морали и нравственности.
При этом, закон как единственное начало человеческой жизни, как правило, продуцировался и утверждался по преимуществу той частью общества, которая собственной жизнью воспроизводила состояние постоянного конфликта с законом (когда «человек человеку волк», по словам Т. Гоббса), ибо сила и власть формального принципа законности тем более значимы и велики, чем более презираемо конкретное («человеческое, слишком человеческое») содержание законов. В отсутствие внерациональных , не сводимых к мышлению регулятивов, право, основанное на законе, становится мировоззренчески всеобъемлющим, стремясь в пределе «талмудически» охватить единой регламентацией все тончайшие перипетии и нюансы человеческого бытия. Нравственность, напротив, утрачивает самостоятельное значение (прежде охраняемое божественной, т.е. внерациональной, духовной санкцией) и в лучшем случае просто отождествляется с правом, что превосходно продемонстрировал К. Гельвеций – один из наиболее ярких представителей новоевропейской ментальности, считавший, что «честности по отношению ко всему миру не существует» 144 144 Гельвеций. Соч. в 2-х т. Т. 1. М.: Мысль, 1974. С. 319.
, но всем в духовной жизни управляет «закон интереса», наподобие того, как физический мир подчинен закону движения 145 145 Там же. С. 186.
, а потому и « наука о нравственности есть не что иное, как наука о законодательстве (курсив мой. — Д.Г. )» 146 146 Там же. С. 271—272.
, т.е. нечто, функционально родственное «закону Моисея». Иначе говоря, право само становится моралью, но моралью не отделимой от закона – в силу самой природы мышления (как бытия-в-мире). При этом захватывая все новые области человеческой жизни и распространяясь на сферу морали, право не рационализируется, а напротив, иррационализируется, в своих собственных основаниях отрываясь от мышления (отказываясь их исследовать), в итоге приобретая религиозные черты священности, становясь своеобразной «законнической» религией.
Столь радикальный умственный и нравственный переворот, приведший в результате к фактическому отождествлению границ человеческого бытия с границами рациональности и как следствие – к упразднению определяющей значимости нравственной проблематики (требующей соответствующей проявленности и напряжения человеческого духа), совершился на основе рецепции и синтеза двух дохристианских мировоззренческих традиций, начиная с XVI в. составивших единый фундамент правовой цивилизации: во-первых, римского права в противовес ранее утвердившемуся благодаря христианству «божественному праву», а также народным правовым обычаям в судах – в сфере государственной жизни и, во-вторых, ветхозаветной этики закона 147 147 Декалог и по форме и по содержанию структурно вписан в обширную систему законодательных учреждений Моисея.
(нормативной этики) в противовес «безумию» Нагорной проповеди в моральной сфере. Что касается первого фактора – правового, то секуляризация политики (отделение религии от политической идеологии) как феномен европейской культуры стала возможна благодаря отделению политики от нравственности (и этики). Ярким выразителем этого процесса в эпоху Возрождения стал Н. Макиавелли. Его «Государь», несомненно, создавался в противовес средневековой концепции «богоугодного властелина», столь характерной как для западной, так и для восточной – византийской, русской – культуры, со всей определенностью утверждавшей приоритет нравственных целей в политике. Иными словами, аморализм (точнее, безразличие к морали и нравственности) в политической жизни с необходимостью должен был привести и в результате привел к утрате ею религиозной перспективы. И наоборот, борьба с религией в политике почти всегда приводила к отказу от этики и морали (как нерационального и неэффективного в сфере власти и управления), вплоть до полного снятия ответственности с системы правосудия за несовершенство общества 148 148 См.: Фуллер Л. Мораль права. М.: Ирисэн, 2007.
и утверждения необходимости формального соблюдения правовых процедур, независимо от их исхода 149 149 См.: Вебер М. Хозяйство и общество. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 2010.
.
Возрастающее значение второго (морального) фактора с полной ясностью определилось уже в эпоху реформации, затем в эпоху просвещения и, в частности, у И. Канта (подведшего своеобразный итог этому движению), который, с одной стороны, как и Гельвеций, допускал аналогию между правовым отношением человеческих поступков и механическим отношением движущих сил 150 150 Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука // Кант И. Соб. соч. В 6-ти т. Т. 4, ч. 1. М.: Мысль, 1965.
, а с другой стороны, усматривал нравственную автономию воли , одновременно полагая принципы необходимости мира в форме рациональных законов (или «долженствования») 151 151 По Канту, «долг есть необходимость совершения поступка из уважения к закону (курсив мой. — Д.Г .)» (Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соб. соч. В 6-ти т. Т. 4, ч. 1. М.: Мысль, 1965. С. 236).
в основание человеческого бытия, устанавливая тем самым все бесконечное богатство внутренней жизни человека в прямом смысле слова вне закона , поскольку оно не может быть до конца рационализировано 152 152 По Канту, вся моральная философия всецело покоится на своей чистой части: будучи применима к человеку, она ничего не заимствует из знания о нем (антропологии), а дает ему как разумному существу априорные законы. См.: Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соб. соч. В 6-ти т. Т. 4, ч. 1. М.: Мысль, 1965.
(и, прежде всего – те эмоции и страсти человеческие, которые со своей стороны так высоко оценивал Гельвеций). В XX в. непознаваемость и рациональная неопределенность, являющиеся условием нравственного достоинства человеческого бытия-в-мире, уже прямо относятся к нечистой, негативной сфере «бессознательного», подлежащей необходимым манипуляциям со стороны психиатров и психоаналитиков, взявших на себя терапевтическую функцию религии 153 153 Наряду с психоанализом З. Фрейда, «вытеснившим» или «сублимировавшим» вместе с религиозным чувством связанную с ним нравственность, «компенсируя» рациональными схемами полное отсутствие живого чувства, симптоматично появление многочисленных так называемых иррациональных, деструктивных идеологий и культов, вся деятельность которых сводится, по существу, к созданию и поддержанию рациональных кодов и программ, «зомбирующих» социальное поведение человека.
.
Интервал:
Закладка: