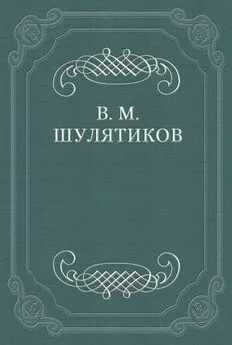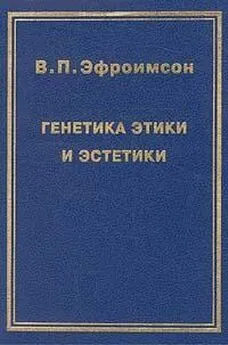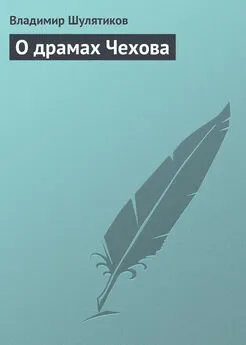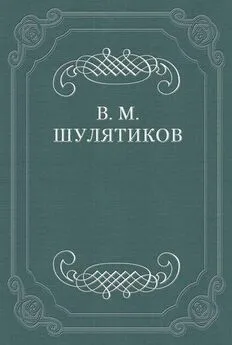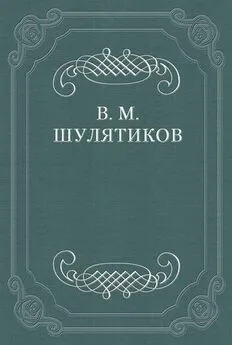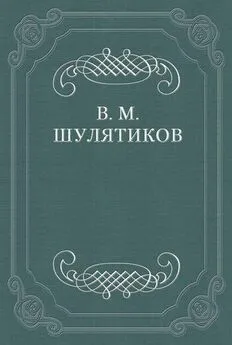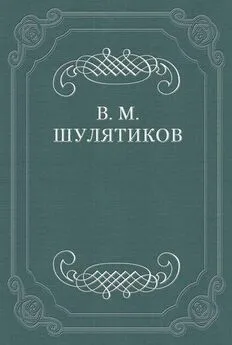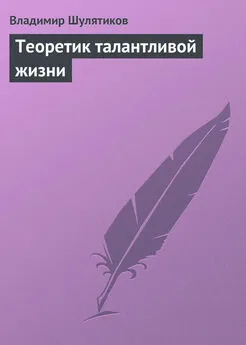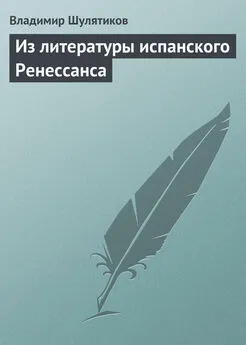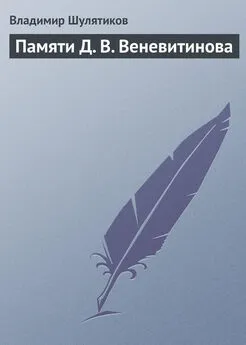Владимир Шулятиков - Восстановление разрушенной эстетики
- Название:Восстановление разрушенной эстетики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Шулятиков - Восстановление разрушенной эстетики краткое содержание
Восстановление разрушенной эстетики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Способности нельзя отрицать во всех этих Решетниковых, Успенских и т. д., – пишет он Полонскому, – но где же вымысел, сила, воображение, выдумка где? Они ничего выдумать не могут – и, пожалуй, даже радуются тому: этак мы, полагают они, ближе к правде. Правда – воздух, без которого дышать нельзя; но художество – растение, иногда даже довольно причудливое, которое зреет и развивается в этом воздухе. А эти господа-бессемянники и посеять ничего не могут» [20] Ibid, стр., 129 (курсив наш).
.
К первой половине семидесятых годов относится следующее, сделанное им в одном: письме заявление:
«Теперь мода в литературе на политику: все, что не политика, – для нее вздор или даже нелепость: как-то неловко защищать свои вещи, но вообразите вы себе, что я никак не могу согласиться, что даже «Стук-стук» нелепость. Вы мне скажете, что моя студия мне не удалась… Быть может: но я хотел только указать вам на право и уместность разработки чисто психологических (не политических и не социальных) вопросов».
Тургенев провозглашает принцип «аполитического», «асоциального», то есть, выражаясь термином г. Неведомского, «свободного» художества.
И предпосылки этого художества определялись стародворянскими тенденциями его пророка. В противовес реализму «разрушителей» эстетики, он выдвигает апологию «вымысла, воображения, выдумки», то есть в столкновении с интеллигентами-разночинцами пользуется тем оборонительным оружием, которое некогда ввели в употребление интеллигенты-дворяне крепостнических времен. От действительности, где хозяйничают чуждые ему люди, от «правды» он бежит в область родной ему стихии. Пессимистически настроенный по отношению ж реальному миру, он «выдумывает» иной мир. От тревог демократического века он находит успокоение в психологических построениях, в анализе индивидуалистических ощущений и настроений, в игре поэтического воображения.
Возрождается «идеализм» и «идеалистическое: искусство» [21] Подчеркиваем, что под «идеализмом» мы разумеем не исключительный идеализм в философском смысле, то есть метафизический идеализм, а нечто более общее, – именно всякого рода бегство от «трагизма эмпирической безысходности» в разные «возвышающиеся над действительностью миры», предпочтение всякого рода «возвышающих обманов» бесстрашному опытному анализу, эмпирическим истинам.
. Виновнику его возрождения оно не принесло желанного покоя. Разорвав с передовой интеллигенцией, создавая «полуреалистические» произведения, Тургенев чувствовал, что теряет под собою твердую почву. В письмах второго периода его литературной деятельности он часто выражает неуверенность в своем направлении. В минуты откровенности он даже называет такие произведения, как «Стук-стук», «Несчастная», – «уродцами». Ему приходится переживать «душевную драму»: разночинские, демократические симпатии уступают, в его психическом мире, диктатуру стародворянским, индивидуалистическим тенденциям не без борьбы [22] Характерно, например, в данном случае его отношение к Базарову.
. Правда, эта драма не была особенно тяжелая, не ознаменовалась никакими особенно глубокими вспышками отчаяния: но все же это была драма, осложнявшая пессимизм Тургенева, делавшая малонадежной ту позицию, в которую он замыкался, спасаясь от «громадно несущейся жизни». Некоторые из «Стихотворений в прозе», например, дают достаточно ясное представление об этой драме.
Тургеневский «идеализм», как исповедь писателя, плывшего «против течения», долго оставался своего рода единичным явлением, не находя себе отклика в рядах «молодых поколений интеллигенции». Пролог был отделен от той общей драмы, частью которой он являлся, длинным рядом годов. «Старые» элементы, выделившиеся из состава передовой интеллигентной ячейки, заполненной разночинскими элементами, и не примыкавшие к явно консервативным группам, не в силах были составить самостоятельный агломерат, который бы создал и иное литературное направление. Только с переменой состава интеллигенции, стоявшей на исторической авансцене, они получили возможность приспособиться к благодарной для них почве.
На закате своей литературной деятельности в толпе молодых художников слова Тургенев отметил одного, не похожего на других. Отмеченный им художник не принадлежал к «бессемянникам». Он, по мнению Тургенева, подавал большие надежды как носитель традиции истинного искусства. Это был Всеволод Гаршин.
Личность Гаршина, действительно, говорила о наступлении новых времен в жизни и литературе. Автор «Attalea princeps», «Художников» и «Красного цветка» был знаменосцем новых кадров интеллигенции.
Это – кадры так называемых «восьмидесятников».
Восьмидесятые годы [23] Употребляя термин «восьмидесятые» годы, мы должны заметить следующее: подобно тому, как принятые литературной критикой понятия «сороковые» годы, «шестидесятые» годы вовсе не отвечают точным хронологическим датам («шестидесятые» годы – это эпоха 1855–1864 гг.), так и «восьмидесятые» годы означают литературный период, не ограниченный десятилетием 1880–1890; к «восьмидесятникам» относится известная часть интеллигенции конца семидесятых годов.
характеризуются первым решительным проявлением энергичной деятельности тех «союзников», на которых возлагались большие надежды интеллигенцией сороковых и пятидесятых годов, – «союзников», которых еще в «реформационную» эпоху приветствовал теоретик «мыслящего пролетариата». «Союзники» сделались господами истории и первым своим дебютом в новой роли заявили о себе с самой невыгодной стороны. Интеллигенты восьмидесятых годов попали в мир «борьбы и наживы», на шумный «рынок», в царство «цифр и расчета». Они на первых порах не видят никакой целесообразности в развитии торгово-промышленного класса. Они видят перед собой лишь «буржуя» и «хищника». Капитализм признается ими «болезненным феноменом, не имеющим будущности». «Действительность» в их глазах получает значение хаотически-беспорядочного процесса. Слепые «страсти» и слепой «случай», кажется им, единственно начинают распоряжаться жизнью общества и отдельного человека.
Вместе с тем, вера в демократические идеалы, выработанная шестидесятниками и семидесятниками, перестает одушевлять интеллигенцию. «Народ», то есть крестьянство, пребывали во тьме «ночи»: попытки внести «свет» в тьму остались безуспешны. Приходил конец «народническим» веяниям. А та часть интеллигенции, которая теперь завладевала общественным мнением, которая теперь руководила судьбами искусства и литературы, унаследовала прогрессивные симпатии лишь как «священные» заветы прежних времен: она не купила этих симпатий ценою интенсивной борьбы с переживаниями «патриархального» и «феодального» строя; она не была связана «страдальческими» узами с «народной жизнью».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: