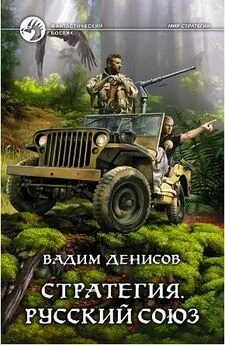Вадим Сапов - Манифесты русского идеализма
- Название:Манифесты русского идеализма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-15024-1, 978-5-271-15023-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Сапов - Манифесты русского идеализма краткое содержание
Несмотря на столетие, отделяющее нас от времени написания и издания этих сборников, они ничуть не утратили своей актуальной значимости, и сегодня по-прежнему читаются с неослабевающим и напряженным вниманием.
Под одной обложкой все три сборника печатаются впервые.
Издание адресовано всем, кто интересуется историей русской мысли, проблемами русской интеллигенции, истоками и историческим смыслом русской революции.
Манифесты русского идеализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда человек мыслит или переживает нечто как должное, со знаком долженствования – отношение его к содержанию этого долженствования совершенно другое, чем к содержанию бытия. Эти отношения несравнимы одно с другим и несводимы одно к другому. Из того, что что-нибудь мыслится мною, как должное, не следует, что оно необходимо будет. Но точно так же из того, что что-нибудь есть или необходимо, по законам природы, будет, нисколько не следует, что оно есть для меня должное по принимаемому мною нравственному закону.
Между тем основная мысль и в то же время основное заблуждение позитивизма состоит в подчинении должного (долженствования) сущему (бытию) и в выведении первого из второго.
На этом подчинении покоится чудовищная идея научной этики, не в смысле психологии, или, что то же, психологического объяснения нравственности, а в смысле нормального или предписывающего учения о должном. Точно то, что есть, может обосновывать то, что должно быть! Подчинение долженствования бытию, выведение первого из второго коренится в некритическом отношении, мы бы сказали, в идолопоклонстве перед принципом причинности. Оно забывает, что в опыте или науке нам открывается причинность и способ бытия, но что самое бытие, как таковое, остается для нас всегда и непознанным, и необъясненным. Объяснение того, что что-нибудь существует, мы всегда отодвигаем, но никогда не заканчиваем. Этот факт, известный под названием непознаваемости «конечных» причин, давно указан и стал общим местом. Но известно, что общие места пользуются privilegium odiosum 7*не быть продумываемыми. Они не продумываются в отрицательно-критическом смысле, т. е. принимаются на веру без достаточных оснований. Но они не продумываются, быть может, еще чаще в положительно критическом смысле, т. е. их содержание остается в значительной мере нераскрытым. Так мне кажется, что общее место в непознаваемости конечных причин редко продумывается в направлении положительно критическом, и зерно этого утверждения, непознаваемость бытия, как такового, остается неясным. В опытном познании или положительной науке мы молчаливо предполагаем, что факты, именуемые конечными причинами, стоят от нас на каком-то бесконечно далеком расстоянии, не только с точки зрения нашего познавания, но и как реальное бытие, другими словами, мы предполагаем, что так назыв. «конечные» причины объявились когда-то, но что теперь все происходит по «закону» причинности. Между тем непознаваемость бытия, как такового, и означает невозможность отрицания беспричинного бытия. Критическая философия показала невозможность, с точки зрения опыта, ни доказать, ни опровергнуть бытие Бога 8*. Мне кажется, что критицизм с логической необходимостью должен быть продолжен. Формула такого расширенного критицизма будет гласить: нельзя вообще отрицать беспричинное бытие. Оно необъяснимо в терминах опыта и, в этом смысле, непознаваемо, но отрицать его значило бы отрицать самое несомненное, а именно самый факт бытия мира. Мир нам прежде всего «дан». Мир, как целое, продукт нашего синтеза из множества «данных». Только незначительная часть их обработана и объяснена с точки зрения причинности, большая же часть всегда была и остается простыми «данными», т. е. подлинными и величайшими тайнами. И самое главное – в том, что мир и не может быть для нас ничем, как только данным, потому что, сведя его к «конечным» для опыта причинам, мы стали бы только лицом к лицу с абсолютно нам данной тайной. В то же время мы не имели бы, как не имеем его и теперь, никакого ручательства в том, что такие тайны – «конечные» причины или беспричинное бытие – не возникают постоянно перед нами, но скрытые от нас. Мы не хотели бы, чтобы наши рассуждения были поняты как фантазерское приглашение к вере в так называемые чудеса. И, с другой стороны, они не должны быть понимаемы и в совершенно отвлеченном смысле, отрешенном от задач науки и проблем жизни.
Кроме веры в причинность, веры, которая есть руководящее начало опытного познания – и только, нет никакого другого основания отрицать беспричинное бытие, как таковое. Беспричинное бытие, конечно, тайна, но таковою, в последнем счете, остается всякое быт ие само по себе. Кроме веры в причинность, нет других оснований отрицать творческое бытие . Правда, с точки зрения причинности, всякое бытие всецело сводимо к другому и т. д., и т. д. Но только либо безусловная вера в причинность, либо полнейший религиозный фатализм [23] В спорах о свободе воли позитивным мышлением ей всегда противополагалась безусловная причинность, или необходимость, религиозным фатализмом – всемогущая Божья воля в смысле предопределения. Параллелизм между позитивным детерминизмом и религиозным фатализмом, образчики которого дали Лютер и Кальвин, не случаен: оба эти вида детерминизма основываются на некритической вере.
запрещают остановки в этом прогрессе, т. е. запрещают допускать творческое бытие, из себя и только из себя творящее другое бытие.
Вера в причинность исключает всякую мысль как о беспричинном, так и о творческом бытии. Но может ли эта вера быть непререкаемою и общеобязательною? Таков вопрос критического сомнения. Нам думается, что критическое размышление не позволяет отрицать ни беспричинное, ни творческое бытие и что потому нет никакого философского принуждения сводить должное к причинно обусловленному. Наоборот, философское размышление своим критическим отношением к вере в причинность не может не подкреплять непосредственного сознания особой природы нравственного долженствования, предполагающего свободное или творческое действование. Причинность, конечно, безусловно требует сведения одного явления к другому по неизменному закону. Свободы, самобытности творческой деятельности духа причинное объяснение не только не допускает, но, наоборот, совершенно упраздняет, как мнимые идеи, неуместные, ничем не оправдываемые, недомысленные остановки человеческого ума, идущего от одной причины к другой. Мы говорим не о том, что думают те или другие детерминисты, которые могут быть и нелогичны, но о том, что думает и не может не думать идея детерминизма. Она, как приложение причинного объяснения к человеческому духу, требует сведения индивидуального и свободно-творческого к общему (социальному) и необходимо-зависимому.
Но какое философское право имеем мы утверждать, что дух в форме личности, осуществляющей должное, не может быть самобытным в своей деятельности, т. е. из себя творящим, самодеятельным началом? Это метафизика, скажут нам. Да, метафизика, но такая, на которую дух наталкивается и непосредственным сознанием своей творческой функции, и критическим размышлением [24] Читатель, знакомый с историей философии, узнает в выше развитых рассуждениях лишь особую форму некоторых основных положений нравственной метафизики Канта 9* .
.
Интервал:
Закладка: