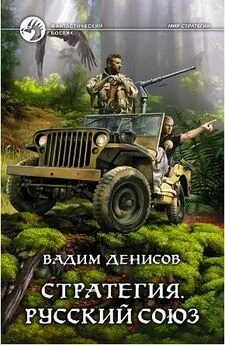Вадим Сапов - Манифесты русского идеализма
- Название:Манифесты русского идеализма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астрель
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-271-15024-1, 978-5-271-15023-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Сапов - Манифесты русского идеализма краткое содержание
Несмотря на столетие, отделяющее нас от времени написания и издания этих сборников, они ничуть не утратили своей актуальной значимости, и сегодня по-прежнему читаются с неослабевающим и напряженным вниманием.
Под одной обложкой все три сборника печатаются впервые.
Издание адресовано всем, кто интересуется историей русской мысли, проблемами русской интеллигенции, истоками и историческим смыслом русской революции.
Манифесты русского идеализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Анализируя далее понятие солидарности, мы должны прийти к заключению, что это не есть ни социальный закон, ни объективное состояние социальных явлений, как думают позитивисты. С точки зрения теоретико-познавательного критицизма, это не более, как наша субъективная категория, как построение нашей мысли. Рассматривать явления в состоянии гармонии и покоя или же в состоянии прогресса и движения, это – лишь особые способы исследования, особые познавательные приемы. Рассматривая социальные феномены со стороны их согласия, мы сознательно устраняем противоречащие элементы, которые не важны для этой точки зрения. Так, например, останавливаясь на гармонии экономических форм, политических учреждений и нравственных идей в известную эпоху, мы намеренно игнорируем тот факт, что политические учреждения могут отставать от экономических форм, а нравственные идеи, в смелом предчувствии будущего, могут заходить значительно далее, чем требуют экономические условия. И это несоответствие не есть исключение, а постоянный факт социальной жизни, столь же необходимый, как и наблюдаемое равновесие общественных явлений. Отсюда бы следовало заключить, что «консенсус» или солидарность социальной жизни есть лишь известная субъективная категория, и для того чтобы она сделалась настоящим научным приобретением, ей следовало бы дать гораздо более точное определение. Ее необходимо подвергнуть предварительно гносеологической и методологической обработке и перенести весь вопрос с почвы наивного реализма на почву теоретико-познавательного критицизма.
Я коснулся здесь этого пункта только для того, чтобы сказать, насколько ошибочно представление позитивистов, будто бы так называемое социологическое рассмотрение явлений есть единственное истинно-научное. Как только мы приходим к убеждению, а к этому нас приводит все современное теоретико-познавательное движение, что социологическое рассмотрение есть лишь известный угол зрения, известный прием научной абстракции, мы должны допустить, что это рассмотрение нисколько не исключает других возможных точек зрения. В конкретной действительности социальная жизнь представляет вовсе не эту абстрактную гармонию, а пестрое сочетание различных явлений, которые могут быть изучаемы и помимо этой гармонии. Нет никакого логического основания к тому, чтобы отвергать законность того изолированного изучения различных социальных элементов, которое Конт считал нерациональным и бесплодным, иллюстрируя свою мысль примером политической экономии. Изолированное изучение известных свойств предметов и их причинных соотношений составляет обычный прием точных наук, и ссылка на политическую экономию служит прямым опровержением той мысли, которую Конт хотел доказать. Столь же мало имеется оснований утверждать, будто бы социологическое рассмотрение имеет за собою преимущество большей глубины, будто бы оно приводит к последним основаниям социальных явлений. Напротив, гораздо скорее следовало бы сказать, что в некоторых важнейших вопросах оно останавливается на пороге проблемы, к разрешению которой оно не может приступить, не оставляя своей почвы. Это именно следует сказать по отношению к нравственному вопросу. Социологическое рассмотрение берет только внешнюю изменчивость нравственных явлений, в зависимости от общего хода социальной жизни. Но эта изменчивость нисколько не определяет существа нравственности. Для того чтобы понять это существо, мы должны оставить почву социологии и обратиться к другим способам изучения. Как скоро мы убедились, что исключительный характер социологического изучения есть чистая фантазия, ничто не препятствует нам признать наряду с этим другие способы рассмотрения, нисколько не вытесняемые социологической методой и нисколько не менее важные.
Отсюда становится понятной та формула, которую мы противопоставляем позитивно-социологическому направлению: нравственность (как и право) может и должна изучаться не только как историческое и общественное явление, но также как внутреннее психическое индивидуальное переживание, как норма или принцип личности. Рядом с социологическим изучением должно быть признано индивидуально-психологическое и нормативно-этическое; нравственность должна быть понята не только со стороны своей исторической изменчивости, но также как явление и закон личной жизни, как внутренняя абсолютная ценность. Все это термины и понятия, совершенно недоступные социологии: для того чтобы к ним перейти, надо ее оставить. Неудивительно, если юристам и историкам, воспитанным на позитивизме, это изучение права и морали, как явлений индивидуальных, кажется просто бесплодной диалектикой: для того чтобы оценить это изучение, надо быть знакомым с философией и отрешиться от предрассудков старой социологической школы.
Само собой разумеется, что психологическое и этическое изучение морали и права, строго отграничивая себя от социологического изучения, не хочет ни соперничать с этим последним, ни заменять его: у них просто различные пути и задачи исследования. Вот почему простым недоразумением является упрек нашему воззрению в том, что оно является «несоциологичным»: требовать здесь социологизма так же мало уместно, как, например, в математике. Нужно оставить навсегда эту мысль, будто бы социология есть какая-то наука наук, без которой в известной области явлений нельзя ступить и шага: это просто один из возможных способов изучения, имеющий строго определенную сферу применения [132].
Защищая изучение права вне сферы социологии, мы не хотим утверждать, чтобы это изучение осталось совершенно чуждым для позитивистов. В этом отношении надо сделать в особенности исключение для юристов, которые не могли не знать столь неясной для многих историков стороны своего предмета, составляющей специальную задачу юридического изучения. В так называемой юридической догме, методологически совершенно независимой от истории и социологии, юристы имели известный пример нормативного рассмотрения и всегда отстаивали свою особую формальную точку зрения на правовые нормы, как не имеющую ничего общего с социологическим объяснением содержания этих норм. Одностороннее социологическое понимание права не помешало Иерингу дать в III части «Духа римского права» блестящий образец разработки юридической техники, которая представляет совокупность самостоятельных логических приемов для обработки догмы права. В русской литературе можно найти по этому поводу очень ценные замечания у профессора Муромцева, который, несмотря на свою приверженность позитивно-социологическому направлению, остался, благодаря своей юридической подготовке, верен началу нормативного рассмотрения. Отправляясь от совершенно точного разграничения юридического принципа и юридического закона, из которых первый «указывает, что должно быть по мнению людей, а второй – что есть в силу природы человека, общества и мира», профессор Муромцев писал: «смешение двух точек зрения, догматической и научно-исторической, составляет в нашей науке результат ложно направленного стремления применить к ней требования высшего научного метода… Прежняя юриспруденция, как бы несовершенна она ни была, оставила нам прочное основание догматики, не допускающее чересчур небрежного обращения с собой. Реформа, в которой нуждается юриспруденция, состоит не в отрицании старых целей, которые всегда были и будут конечными целями ее, но в дополнении этих целей, ради более успешного достижения их, новыми целями и соответственными средствами. Все, что касается до построения «науки» гражданского права в строгом значении этого имени, приходится созидать прежде всего не внутри догматики, а вне ее и притом рядом с нею» [133]. Из этого видно, что почтенный ученый совершенно ясно представлял отношение новых приемов социологического исследования к старым. Нельзя, однако, не сказать, что «стремление применить к юриспруденции требования высшего научного метода» и профессора Муромцева приводило к некоторым ошибочным результатам, стоявшим в противоречии с отвлеченно-нормативной сущностью юриспруденции. Так, в различных местах его более позднего труда: «Определение и основное разделение права» (1879 г.) проглядывает стремление устранить представление о праве, как об отвлеченном предмете, и превратить мыслимую юридическую связь в фактическую, «соответствующую конкретной действительности» [134]. Это отразилось, например, на учениях о преемстве и восстановлении прав, за которыми профессор Муромцев отказывался признать реальный смысл [135]. Между тем ясное понимание нормативной стороны права заставляет настаивать как раз на противоположном взгляде, что право есть отвлеченная мыслимая связь, далеко не соответствующая конкретной действительности, которая не покрывает и не исчерпывает той мыслимой связи и в случаях нарушения права может становиться с ней в противоречие. Конкретная жизнь вносит много изменений, дополнений и корректур в отвлеченные требования права, которые, как еще недавно разъяснял Еллинек, имеют отношение не к конкретному бытию, а к абстрактному долженствованию. Пример этого авторитетного и для наших позитивистов ученого должен был бы окончательно убедить их в том, что изолированное изучение нормативной стороны права есть совершенно законный прием исследования, имеющий все права на существование, наряду с историко-социологическим изучением.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: