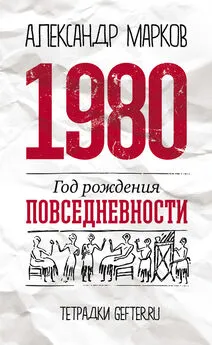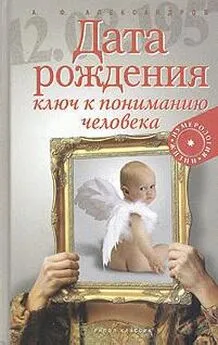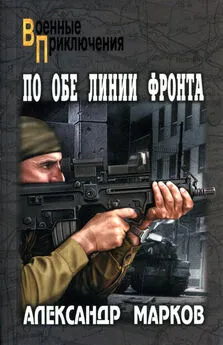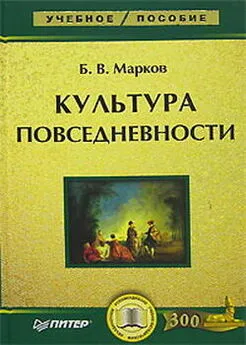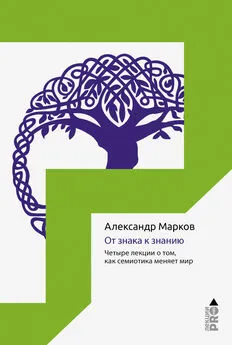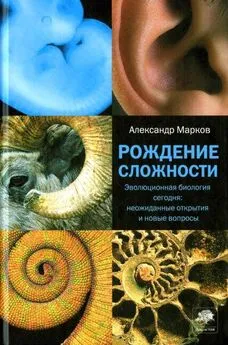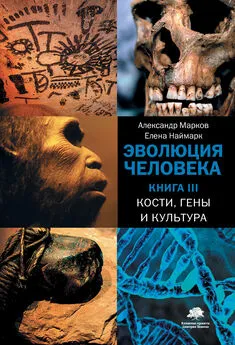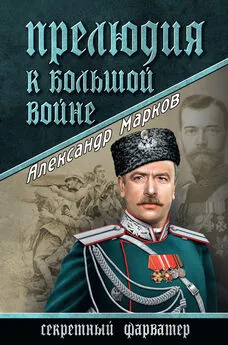Александр Марков - 1980: год рождения повседневности
- Название:1980: год рождения повседневности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Array
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-9739-0219-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Марков - 1980: год рождения повседневности краткое содержание
1980: год рождения повседневности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Различие между этими двумя реальностями – не в их природе и не в производимых эффектах, а только в том, каким образом они соотносятся с практиками. Реальность причин, которую изучает историография, всегда «камуфлирует» практики, всегда заставляет нас смотреть на них с того расстояния, когда нам еще приходится разбираться, что с чем соотносится: мы как бы заглядываем в окна, пытаясь по теням и силуэтам понять, что происходит в доме. Напротив, реальность следствий позволяет нам приподнять крышу и, то взмывая вверх, то снижаясь, в деталях рассмотреть устройство практик: только так мы можем понять, как организованы практики, хотя описать их «суть» с этой точки зрения гораздо труднее.
Исходя из своей теории практик, де Серто предложил программу перестройки историографии. Современная историография, считал он, остается очень идеологизированной дисциплиной, потому что считает свою практику классификации и упорядочения объектов познавательной. В результате историки сами не замечают, как они с чрезмерной эмпатией начинают относиться к деятелям прошлого: они считают, что именно в прошлом люди действительно познавали, а если и страдали, то от того, что сами не очень понимали тот мир причин, в котором жили. В то же время в идеологизированной современной историографии современность, наоборот, постоянно подвергается упрощению, она выглядит как ненужный придаток тех следствий, которые, по мнению историков, как раз и позволяют ясно разглядеть картину прошлого.
Мишель де Серто настаивает на том, что язык историографии имеет много общего с языком обыденным: и обыденное словоупотребление, и исторический рассказ стремятся поместить непокорную реальность в упаковку из готовых понятий, дабы любое действие выглядело закономерным, отвечающим уже сложившимся представлениям о мире и людях. Например, когда историк изображает любое внесистемное событие в прошлом или настоящем как «сопротивление власти», он ничем не отличается от кладовщика, осматривающего коробки на предмет отсутствия повреждений. И то, что теоретики историографии выдают за «систему» исторического знания, на самом деле представляет собой всего лишь аккуратно оформленную складскую книгу.
Для де Серто история как процесс состоит из множества различных порядков, порожденных множеством различных поступков. Примерно таким же образом множество порядков может быть порождено какой-либо отдельной конкретной вещью: например, мы можем говорить о любой бытовой вещи как о полезном предмете, или показателе развитого производства, или дорогом воспоминании, или составляющей престижа, или одном из способов общения представителей конкретной прослойки. Точно так же любое событие может оцениваться и как полезное для всех сограждан, и как результат развития страны, и как просто интересный момент жизни. Де Серто считал ошибочным то, что его предшественники различали поступок и событие не на основании внутреннего изучения явлений, а исключительно на классовых основаниях: скажем, деятельность правителя могла описываться как «событие», а протест – как «поступок», и наоборот.
В результате создавался привилегированный дискурс, возвышающий отдельные решения, часто продиктованные обстоятельствами, до степени вселенских переворотов, а все прочие решения низводящий до статуса простого оформления тех событий, которые по разным причинам были признаны высокими или героическими. Цель де Серто, напротив, состояла в том, чтобы не просто дать слово безмолвствующему большинству, но показать, что события из жизни простых людей не менее значимы, чем действия «лидеров»; причем де Серто имел в виду не ту «значимость» судеб, о которой говорила постромантическая литература, но реальные возможности события объединять смыслы, каждый из которых связан с социальным поведением людей, и приводить в движение все, что попадает в поле его действия. По мнению де Серто, только слишком литературное, «метафорическое» понимание смысла мешает нам увидеть эту динамичную ткань истории. Вместо этого мы видим только отдельные знакомые вещи и сводим любое потребление к потреблению этих родных для нас вещей, потому любое потребление начинает казаться нам успешным: мы не учитываем, что помимо потребления привычных предметов быта существует также потребление идей, возможностей, примеров и моделей социального поведения.
Единственное исключение в доминирующей идеологической историографии – «семейная история», в которой реально не только то, что знакомо и присвоено: события семейной истории делятся на «высокие» и «низкие», а значит, не могут считаться окончательно присвоенными. С точки зрения де Серто, это разделение является не «политическим», на чем настаивали постмодернистские теоретики, а мифотворческим: когда семейство стремится подчеркнуть значение своей деятельности, оно настаивает на том, что она разворачивалась в «возвышенном» окружении, а ее рецепция была низкой и дискурсы выживания оказались сильнее власти событий мирового масштаба. Но именно поэтому де Серто не считал «семейную историю» историей потребления; он скорее считал ее идеальным предметом потребления: сколь бы неудачной ни была рецепция, она не подрывает качество потребляемого имиджа.
Необходимо отметить еще один важный момент рассуждений Мишеля де Серто о природе исторического сознания, который лег в основу его книги «История как письмо» (1975) и далее воспроизводился в других его работах. Согласно де Серто, историческое сознание возникает тогда, когда прекращаются постоянные изменения исторической ткани, когда переменчивость событий, прежде естественная, зависящая от переменчивости самого тела, его настроений, его побуждений и пристрастий, ставится под вопрос. Согласно де Серто, это происходит тогда, когда историк утрачивает свою прежнюю привилегированную позицию участника исторических событий, отличную от позиции правителя только тем, что историк оценивает события исходя из своих представлений о благородстве. Такой историк предупреждает, что наличный поступок может оказаться бесславным», то есть о нем не удастся сказать ничего хорошего и он будет заклеймен как невнятная пустота. Такой историограф не следует имеющемуся социальному языку, но как правитель проверяет границы языка, проверяет, где язык может подвести, – при этом он опирается не на политическую практику, а на внутреннюю логику самого языка.
В определенный момент в европейской культуре историк становится экспертом, который уже не испытывает границы исторических событий, а только указывает на то место, где эти исторические события происходят. Такой эксперт, например, может отметить, что глобальные события разыгрываются в масштабе всей страны, тогда как более мелкие заметны только для их непосредственных участников. Де Серто остроумно указывает на то, что именно с этого момента обозримость события начинает отождествляться с его овладением. Если раньше историк, как хранитель исторической речи, исторического «дискурса», мог подсказывать правителю, как обращаться с событиями, то теперь каждый правитель считает себя властителем всех необходимых языковых средств и не нуждается в советах историка. В этой ситуации у историка остается только одна власть, а именно: указывать на границы застывшего языка, подразделяя всемирную историю на «эпохи», а обозримый ему материал социальной коммуникации – на «поколения».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: