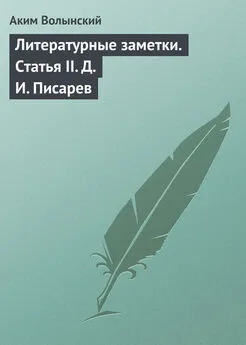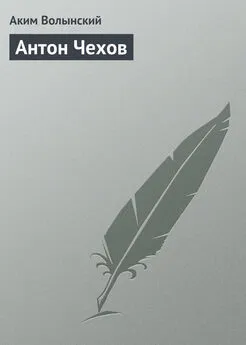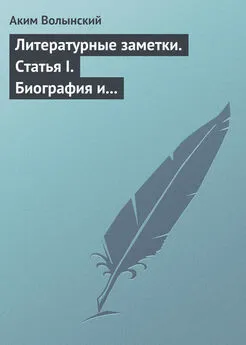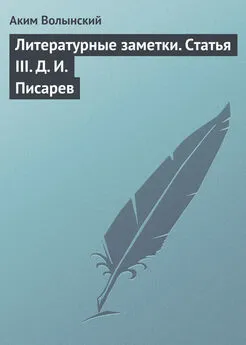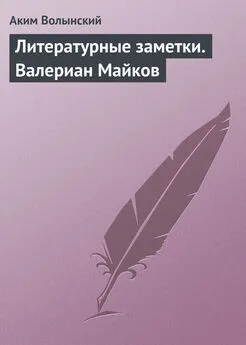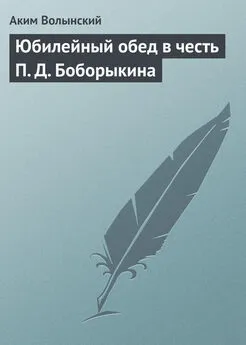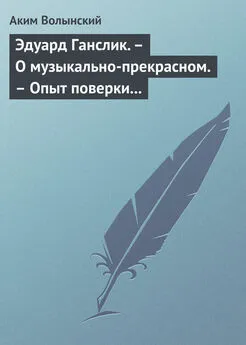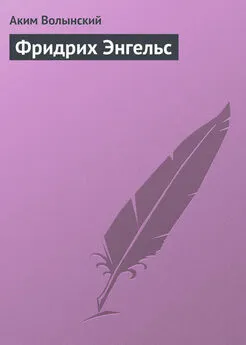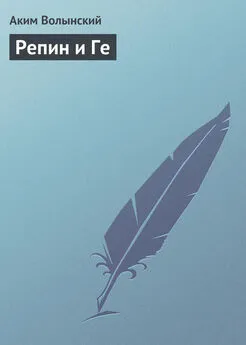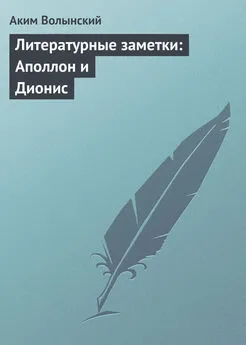Аким Волынский - Литературные заметки. Статья II. Д. И. Писарев
- Название:Литературные заметки. Статья II. Д. И. Писарев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аким Волынский - Литературные заметки. Статья II. Д. И. Писарев краткое содержание
Литературные заметки. Статья II. Д. И. Писарев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Среди этих убежденных рассуждений о женском вопросе, имеющих строго теоретический характер и изложенных с обычною простотою литературных выражений, местами в рецензиях Писарева мелькнет невольное замечание, выдающее юношескую грезу о личном счастье – безбурном, спокойном, ровном. Роман с Раисою был еще в полном разгаре. Не умея прятать свои настроения, он иногда, среди общих рассуждений на данную тему, открывает мечту своего сердца в простых и трогательных фразах, без прогрессивного задора, почти не заботясь о том, чтобы сгладить сентиментальные оттенки своего чувства. Самая идея женской эмансипации часто выступает у него в скромных словах без всякого звона и даже с оговорками, которые едва-ли отвечали радикальным запросам времени. Он не разрушает в корне старых представлений об этом предмете. Выступая под новым, прогрессивным знаменем, он хотел бы только восполнит пробел в современной ему системе женского воспитания, расширить самое понятие о женской личности и тем как бы наметить программу необходимых реформ в социальной жизни русского общества. Его смелая критика, воюя с предрассудками, не трогает некоторых святынь, с которыми неразрывно связаны высшие духовные интересы человека. Прокладывая новые пути в этом важном социальном вопросе, он нигде не доводит своего анализа до крайних пределов, нигде не обнаруживает настоящей революционной страсти, обращенной на самые основы семейной жизни. Самостоятельность женщины, говорит в одном месте Писарев, состоит в разумном употреблении тех способностей, которые вложила в нее природа, а не в пустом нарушении «безвредных условий общественности» [3] «Рассвет», 1859, № 7, Русские периодические издания, стр. 15.
. Эмансипация женщины, пишет он в другом месте, «состоит не в бесплодном ниспровержении общественных приличий, а в реформе женского воспитания» [4] «Рассвет», 1859, № 11, Русские периодические издания , стр. 51-52.
. Жорж-Занд отнеслась к вопросу о самостоятельности женщины не так, как следовало. Она обратила преимущественное внимание на стеснительные законы света, ограничивающие круг её независимой и самостоятельной деятельности. Не имея власти над своими крайними идеями, она потребовала уничтожения этих неосмысленных законов и сама же первая их нарушила. В этой области вся агитационная работа Жорж-Занд не могла дать благих результатов. Она впала в роковую ошибку, потребовав независимости для женщины,– «тогда как следовало сначала требовать для женщины серьезного образования». Нападая на внешние стеснения, «основанные на внутренней слабости и неразвитости самой женщины», Писарев хотел бы, чтобы вопрос о женском воспитании и образовании был подвергнут спокойному и хладнокровному обсуждению. Не увлекаясь никакой теорией, надо понять истинное назначение женщины, чтобы незыблемыми доводами оградить её лучшие права подруги своего мужа, матери и воспитательницы своих детей. «Женщина, близкая к идеалу, развитая во всех отношениях, всегда будет и хорошею женою и примерною матерью», – с догматическою твердостью изрекает отважный, блестящий, но не глубокий Писарев. Муж имеет право, говорит он в одной рецензии, требовать от жены не только любви, но и дружбы, «а для дружбы необходимо взаимное уважение и одинаковое развитие». Муж должен найти в жене сочувствие. Имея высшие духовные потребности, он должен удовлетворять их в семейном кругу, при содействии развитой жены, «способной мыслить и усваивать себе отвлеченные идеи». От этой догмы, обоснованной по новому, но построенной в старом, ортодоксальном стиле, Писарев не уходит ни на шаг. Меняя подчас аргументы в борьбе за эмансипационную идею, он никогда не изменяет главному, как он его понимает, принципу женского воспитания. Старая догма остается неприкосновенною. При всем публицистическом размахе, рассуждения Писарева, парят не высоко над землею, не освещая глубин вопроса, не открывая никаких новых умственных горизонтов. Передовая тенденция, по плечу самому среднему читателю, нередко вспыхивает у него между двумя прозаическими по содержанию, но зажигательными по форме тирадами о женской самостоятельности – в простодушной, наивной мечте о каком то особенной! семейном строе, с интеллигентною, прогрессивною женою у кормила правления. Какие светлые перспективы! Какое широкое поприще открыто для передовой женщины! О муже не приходится говорить, – его дело ясно, его служение обществу, какие бы формы оно ни приняло, историческими силами выведено на верную дорогу. Все дело в ней. Как она устроится при новых понятиях, подучивших осуществление в прогрессивной системе воспитания? Чем наполнит она часы, свободные от прямых я самых важных для неё обязанностей? Писарев с юношеским увлечением набрасывает следующую картину, которая в свое время, конечно, подхватывала и уносила всякое живое, пылкое воображение. В прогрессивной семье женщина имеет свое определенное дело. Она занимается журнальными переводами, и при этом она вовсе не теряет своей материнской нежности. Сидя «над денежными работами», она ни на минуту не забывает о своем ребенке, и светлые мысли, одна увлекательнее другой, возбуждают в ней энергию в тяжелые минуты труда, нужды, физической или умственной усталости. Осмысленная деятельность развивает в ней силу ума, не уничтожая естественных чувств и побуждений, вложенных в нее природою… [5] «Рассвет», 1859, № 7, Русские периодические издания, стр. 14.
.
В двенадцати книгах «Рассвета» 1859 года библиографический отдел, руководимый Писаревым, был одним из самых ярких и живых в журнале. Кремпин не мог найти для себя лучшего сотрудника, чем Писарев, в среде студенческой молодежи, которая постоянно, во все эпохи, высылала на журнальное поле своих бойких, смелых ратоборцев и застрельщиков передового движения. Добролюбов тоже начал свою литературную карьеру еще на скамье Педагогического института и начал с полным успехом, сразу возбудив своим острым, ядовитым пером журнальные страсти и сразу же сделавшись блестящею надеждою «Современника», товарищем и другом Чернышевского. Подобно Добролюбову, Писарев выступает с небольшими на первых порах рецензиями, написанными в сдержанном, но смелом тоне, закругленными, безупречно литературными периодами, отражающими светлое и ровное настроение. Не вдаваясь в настоящую критику, Писарев постоянно заботится о логической полноте проводимой им публицистической мысли и лишь моментами, уступая порывам прирожденного таланта и внутренней потребности писать изящными красками, он бросает на ходу отдельные, частные замечания, обличающие тонкий вкус незаурядного литератора и ценителя художественных произведений. Три рецензии Писарева об «Обломове», «Дворянском гнезде» и «Трех смертях», напечатанные в последних книгах «Рассвета», должны были обратить на себя всеобщее внимание – по своему тону, по меткости и сжатости отдельных художественных характеристик, по богатству литературных выражений для передачи чисто поэтических впечатлений. В этих заметках нельзя было не увидеть прямого критического дарования с эстетическим чутьем к красоте, с уменьем проникаться художественными идеями. Для молодого студента, который только еще испытывал свои литературные силы, эта блистательная проба пера над тремя замечательными произведениями русского искусства была настоящим триумфом. Мы уже знаем, что Гончаров отдал рецензии Писарева предпочтение перед многими другими статьями о его романе. В статейке о «Дворянском гнезде» попадаются психологические определения, рисующие оригинальные особенности Тургеневского художественного письма выразительно, с полной рельефностью. С убеждением умного эстетика, легко и свободно разбирающегося в самых тонких, внутренних движениях художественной идеи, Писарев, под конец своей статьи, воздает Тургеневу справедливую хвалу за то, что он не держит в своем романе открыто перед всеми никакой внешней тенденции. «Чем менее художественное произведение, говорит он, сбивается на поучение, чем беспристрастнее художник выбирает фигуры и положения, которыми он намерен обставить свою идею, тем стройнее и жизненнее его картина, тем скорее он достигнет ею желанного действия» [6] «Рассвет» 1859. № 11, Русские книги , стр. 10.
. В романе нет ни тени дидактизма, а между тем встающая в нем картина русской жизни полна высокого поучительного смысла я отражает в себе целую эпоху. При этом на всем произведении лежит печать определенной национальности, переданной с настоящею глубиною художественного понимания, очищенной и осмысленной огромною силою поэтического таланта.
Интервал:
Закладка: