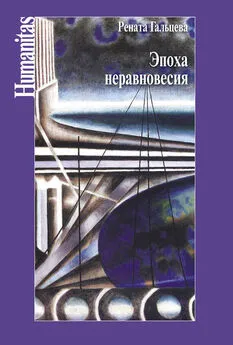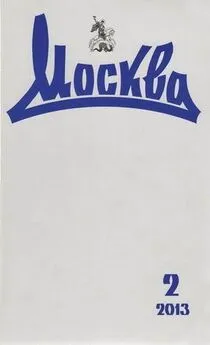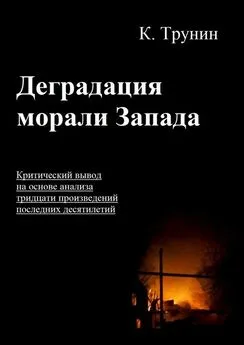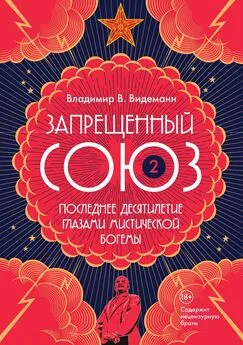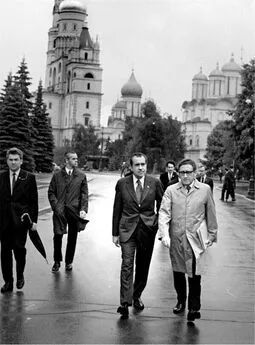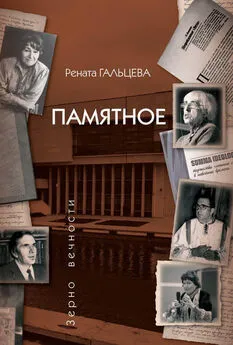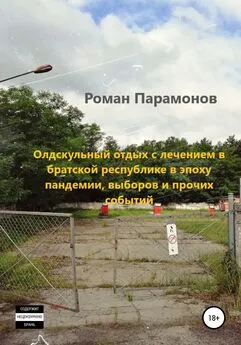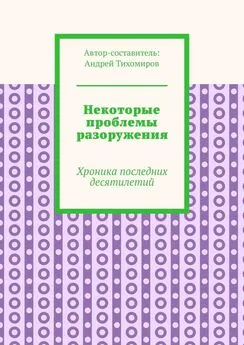Рената Гальцева - Эпоха неравновесия. Общественные и культурные события последних десятилетий
- Название:Эпоха неравновесия. Общественные и культурные события последних десятилетий
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ЦГИ
- Год:2016
- Город:М.; СПб.
- ISBN:978-5-98712-547-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рената Гальцева - Эпоха неравновесия. Общественные и культурные события последних десятилетий краткое содержание
Новоевропейский житель и особенно россиянин зажат ныне между полярными, но равно тоталитарными идеологиями: нацистской и коммунистической, грозящими безличным окаменением, и лжелиберальной, ведущей к распаду бытия. Сегодня на цивилизацию наступает исламизм.
Автор хотел бы думать о себе, перефразируя А. К. Толстого, что он «двух станов не боец», но и не «гость случайный», поскольку стремится противопоставить этим двум третий, генеральный путь европейской цивилизации.
Эпоха неравновесия. Общественные и культурные события последних десятилетий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
[8] Там же.. Руководствуясь трансцендентальной философией Шеллинга (знакомство с которой повергло Одоевского в такой восторг, что он две недели босой играл на флейте), русский философ пытается развивать свои концептуальные построения, но ощущает неудовлетворенность и погружается в чтение западной мистической литературы: Сен-Мартена, Пордеджа, Баадера, Балланша, а также и Святых Отцов, что помогает ему обрести углубленно-критический взгляд на популярную натуралистическую теорию Руссо. Одоевский корректирует ее, исходя из факта грехопадения: мысль Руссо, что «природа сама по себе прекрасна», отчасти недоговорена, отчасти ложна. Беспристрастное восхваление природы убивает в человеке мысль о падении природы вместе с человеком. Человек только тогда человек, когда он идет наперекор природе
[9] Цит. по: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. М., 1913. Т. 1, ч. 1. С. 6–447.. Мысль Одоевского впитывает идеи из различных источников, воспринимает их от разных «властителей дум» Европы – тут, помимо упомянутых, и Шиллер, и Гёте, однако он последовательно акцентирует один мотив, формулируя в качестве центрального постулата мысль о необходимости «возводить ум до инстинкта», что сродни, как напоминает прот. В. В. Зеньковский, «тому церковному учению, которое ставит своей задачей „возвести ум в сердце“»
[10] Зеньковский В. В. История русской философии. М., 1995. Т. 1. С. 134.. Эту линию в теории познания разовьют затем славянофилы в понятиях «цельного знания», «живознания», «верящего разума» – в противовес гносеологии рационализма. Линия противостояния протянется через всю русскую философскую мысль, демонстрируя ее самобытную избирательность, ее творческое восприятие западных влияний и характерное неприятие уклона в рационализм, проявившегося в новоевропейской философии.
Следующая веха – П. Я. Чаадаев, наш знаменитый парадоксалист, соборный западник, высоко ценивший немецкую философию, чтивший Шеллинга, с которым был знаком и переписывался; он знал Канта и, быть может, раньше других в России изучил Гегеля. Но опять же, не удовлетворенный немецким рационализмом (из коего исключение представлял Шеллинг), Чаадаев обращается к романтикам, как немецким, так и французским. В кантовской «Критике чистого разума» русский философ усматривает главным образом критику искусственного разума, поскольку это разум обособленный, оторванный от источников мудрости, а именно – от надындивидуального соборного сознания, которое имеет свое начало в Боге. Те же коррективы Чаадаев вносил в кантианскую концепцию нравственной автономии индивида: ведь, подобно источнику истины, исток морального закона лежит не внутри нас, а вне нас (иначе говоря, он находится в нас лишь постольку, поскольку мы удерживаем в себе то, что выше нас, что над нами). Обычный человек, порвав с дисциплиной традиций, будет падать все ниже и ниже.
И вот снова, как мы видим в мысли Чаадаева, философское заимствование подвергается целенаправленной переплавке.
Та же самая упрямая тенденция еще более ярко обнаруживает себя в отечественной философской школе славянофильства. И это притом что славянофилы и Чаадаев в своих исторических воззрениях – о путях европейской цивилизации и о судьбах России – находились «по разные стороны баррикад». В мышлении славянофилов – И. В. Киреевского, А. С. Хомякова, братьев К. и И. Аксаковых, А. Кошелева, Ю. Самарина и других – отчетливо выявляется лицо русской мысли с ее онтологизмом, приматом нравственного начала над абстрактно-познавательным, утверждением общинных корней личности, верой в «сверхнаучную тайну» жизни.
Итак, в процессе рецепции западной философии идет двойная, точнее, двуединая философская работа: самоопределение и – кристаллизация образа, который европейская философия обретает в сознании русских мыслителей.
Отношение неразрывной зависимости между нею и своей, будущей чаемой системой идей понятно из рассуждений И. Киреевского. Выражая настоятельную потребность в философии («немецкой философии») для русского сознания того времени, он заявляет: «Нам необходима философия: все развитие нашего ума требует ее»; он подчеркивает, что «чужие мысли полезны для развития собственных… Наша философия должна развиваться из нашей жизни… Но стремление к философии немецкой, которое начинает у нас распространяться, есть уже важный шаг к этой цели» [11] Киреевский И. В. Обозрение русской словесности за 1829 г. // Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 2. С. 27.
.
Как же конкретно был воспринят нашей первой отечественной школой мысли немецкий классический идеализм, высшее достижение европейской философской мысли? Мы уже знаем, что славянофилы прекрасно понимали его высоту.
Молодой И. Киреевский в 1830 г. отправился в Германию, слушал лекции Гегеля, познакомился с ним и даже имел беседы; посещал лекции Шлейермахера и Шеллинга. Он хорошо осознавал, с какими первоклассными умами свела его жизнь. И недаром, вернувшись на родину, он начал издавать журнал под многозначительным названием «Европеец». Пройдя Гегеля, а затем шеллингианскую критику Гегеля, славянофилы почувствовали глубокую неудовлетворенность от господствующей в немецком идеализме установки на спекулятивный панлогизм, порождающий безысходный круг понятий, на всепоглощающую рассудочность, порывающую с бытием. Таким образом, если Чаадаев в уклонении от верного пути познания обвинял главным образом индивидуализм, субъективный разум, то славянофилы акцентировали саму абстрактность рассудочного начала, господствующую в немецкой философии, в ущерб всем остальным силам души. Известен пассаж Киреевского, обличающего «самодвижущийся нож разума, этот отвлеченный силлогизм, не признающий ничего, кроме себя… этот самовластвующий рассудок» [12] Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России // Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 251.
. А. С. Хомяков в «титаническом труде» Гегеля, выразившем до конца рационалистическое направление мысли, отмечает иллюзорную бытийственность «самосущего понятия», которое лежит в основании гегелевского панлогизма, ибо это «мир без субстрата». «Никогда такой страшной задачи, такого дерзкого предприятия не задавал себе человек. Вечное, самопорождающееся творение из недр отвлеченного понятия, не имеющего в себе никакой сущности. Самосильный переход из нагой возможности во всю разнообразную и разумную существенность мира» [13] Хомяков А. С. По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В. Киреевского // Сочинения. М., 1911. Т. 1. С. 265–266.
. Нам не нужно комментировать всю существенность критики Хомякова, а равно и Киреевского. Она движется по линии их предшественников Одоевского и Чаадаева, она оживляет воззрения патристики, подвигшей на включение в процесс познания данных внутреннего опыта. Славянофилы развивают идеи «цельного знания», т. е. учета в познавательном процессе показаний интуиции и воли. Действительность может быть познана только «цельным разумом», в истоке которого – вера в бытие, т. е. в непосредственное, живое знание («живознание»).
Интервал:
Закладка: