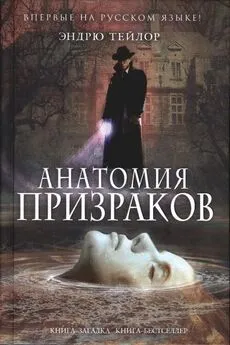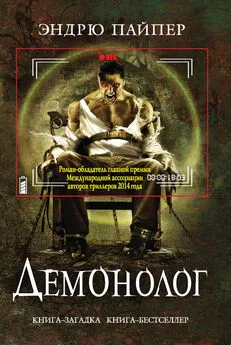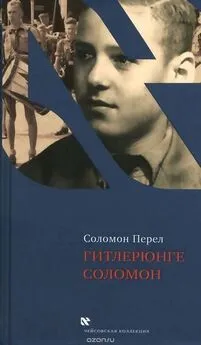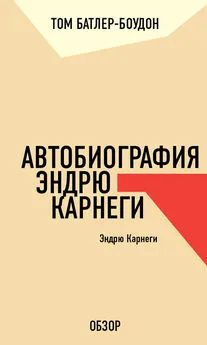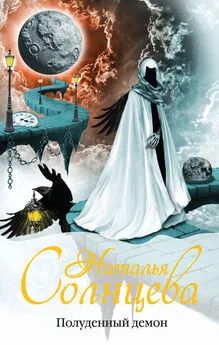Эндрю Соломон - Демон полуденный. Анатомия депрессии
- Название:Демон полуденный. Анатомия депрессии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Добрая книга
- Год:2004
- ISBN:5-98124-017-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эндрю Соломон - Демон полуденный. Анатомия депрессии краткое содержание
В этой книге делается попытка охватить исторические и географические зоны распространения депрессии. Порой создается впечатление, что депрессия — частный недуг современного западного среднего класса. Подобное представление возникает лишь потому, что именно в этой среде мы вдруг стали обретать новые прозрения, позволяющие распознать депрессию, назвать ее, лечиться от нее и принимать ее как факт, а вовсе не потому, что мы имеем особые права на сам недуг. Никакая книга не в состоянии охватить весь спектр человеческих страданий; надеюсь, что, хотя бы обозначая его, мне удастся помочь освободиться нескольким людям, страдающим депрессией. Никто и никогда не сможет уничтожить все человеческие несчастья, и даже победа над депрессией не гарантирует счастья, но я надеюсь, что сведения, содержащиеся в этой книге, помогут кому-нибудь избавиться от некоторой доли страданий.
Демон полуденный. Анатомия депрессии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Бертон классифицирует принятые тогда средства от депрессии. Существовали средства незаконные — исходящие «от дьявола, колдунов, ведьм и проч. с использованием талисманов, заговоров, заклинаний, идолов и т. д.», и законные — исходящие «непосредственно от Бога, опосредованные через природу, кои включают в себя и работают через 1) врача, 2) пациента и 3) медицину». Перечисляя средства в десятках категорий, он в итоге говорит, что «наиглавнейшее» состоит в попытках прямо обратиться к «страстям и смятению души» и очень советует «открыться» друзьям и искать «развлечений, музыки и веселой компании». Он рекомендует средства из собственного каталога: календулу, одуванчик, ясень, иву, тамарисковый цвет, фиалку, сладкие яблоки, вино, табак, маковую патоку, ромашку, зверобой — но только «собранный в пятницу в час Юпитера», — и ношение перстня, сделанного из переднего правого копыта осла.
Бертон не проходит и мимо трудной проблемы самоубийства. Тогда как меланхолия в конце XVI века была в некотором роде модной болезнью, самоубийство было запрещено законом и Церковью, и запрет подкреплялся экономическими санкциями. Если человек в Англии того времени совершал самоубийство, его семья должна была сдать все его движимое имущество, включая плуги, грабли, товар и прочие материалы, необходимые для любого рода хозяйственной деятельности. Некий мельник из одного английского городка убивался на смертном одре после нанесения себе смертельной раны: «Я лишился своего имущества в пользу короля и пустил по миру жену и детей». Рассуждая о религиозных аспектах самоубийства, Бертон опять осторожничает с цензорами своего времени; признавая, насколько невыносимым может быть острое состояние тревоги, он вопрошает, «законно ли для человека в таком состоянии меланхолии применять насилие к самому себе». Дальше он пишет: «В череде этих жалких, безобразных, таких утомительных дней они, не находя ни утешения, ни исцеления в этой своей отвратительной жизни, ищут, наконец, избавления от всего этого в смерти… хотят быть собственными палачами, казнить себя». Это знаменательно, ибо до Бертона вопрос депрессии стоял совершенно отдельно от этого преступления против Бога — самоуничтожения; собственно говоря, даже слово «суицид» придумали вскоре после того, как вышел в свет труд всей жизни Бертона. В книгу вошли рассказы о тех, кто покончил с жизнью по политическим или нравственным соображениям, кто сделал свой выбор по доведенному до отчаяния рассудку, а не по болезни. Затем автор переходит к самоубийству, лишенному рациональности, и так сводит вместе эти две проблемы, до него подвергавшиеся одним лишь проклятиям, в единую тему для обсуждения.
Бертон приводит занимательные случаи меланхолического бреда: один человек считал, что он моллюск; несколько других полагали, «что сделаны из стекла и потому не потерпят, чтобы кто-либо к ним приближался; что они сделаны из коры пробкового дерева; легкие, как пух, или тяжелые, как свинец; иные боятся, что голова упадет у них с плеч, что в животе находятся лягушки и т. д. Некто боится переходить по мосту, приближаться к пруду, скале, крутому холму, находиться в комнате с пересекающимися балками — из страха перед искушением повеситься, утопиться или броситься вниз». Такие фобии были типичны для меланхолии того времени, и их описаниями изобилует медицинская и другая литература. Голландский писатель Каспар Барлеус в разные периоды своей жизни считал себя сделанным то из стекла, то из соломы, которая может в любой момент загореться. У Сервантеса есть новелла «Стеклянный лицензиат» — о человеке, считавшем себя сделанным из стекла. Действительно, это было настолько распространенной иллюзией, что иные врачи того времени называли ее без затей — «стеклянным бредом». Этот феномен появляется в популярной литературе всех стран Запада того периода. Несколько голландцев были убеждены, что у них стеклянные ягодицы и изо всех сил избегали садиться, боясь их разбить; один настаивал, что может путешествовать только упакованным в ящик с соломой. Людовик Казанова оставил пространное описание пекаря, считавшего, что он сделан из масла, и боявшегося растаять, который желал постоянно пребывать голым и покрытым листьями, чтобы ему было прохладно.
Эти бредовые идеи генерировали целые системы меланхолического поведения — они заставляли людей страшиться обычных обстоятельств, жить в постоянном страхе, сопротивляться любым человеческим привязанностям. Страдавшие таким бредом неизменно страдали и другими, обычными симптомами — необоснованной тоской, постоянным переутомлением, отсутствием аппетита и так далее — всем тем, что мы сегодня связываем с депрессией. Эта тенденция к бредовым состояниям существовала и в более ранний период (папа Пий II сообщает, что король Франции Карл VI, прозванный «Безумным», еще в VI веке считал себя стеклянным и велел вшивать в свою одежду железные ребра, чтобы не разбиться при падении; древние мании подобного рода описаны Руфием); она достигла пика в VII веке и знакома в наши дни. Существуют недавние записи о некой депрессивной голландке, считавшей, что у нее стеклянные руки, и из страха их разбить не одевавшейся; пациенты с шизоаффективными расстройствами часто слышат голоса и имеют видения; люди с неврозом навязчивости подвержены столь же иррациональным страхам, например ужасу перед неопрятностью. Однако чем ближе к нашим временам, тем менее конкретной в целом становилась природа такого бреда. Все эти маньяки XVII века на самом деле демонстрируют признаки паранойи и мании преследования, чувства, что повседневные требования, предъявляемые жизнью, выше их сил — все это абсолютно типично для современной депрессии.
Я и сам помню, как в депрессии был не способен к самым простым действиям. «Я не могу сидеть в кинотеатре», — говорил я, когда кто-то пытался развеселить меня, пригласив в кино. «Я не могу выйти из дома», — утверждал я позже. У этих ощущений не было конкретного разумного обоснования — не то, чтобы я боялся растаять в кино или окаменеть на улице от ветра; я знал в принципе, что для невозможности выйти из дома у меня нет никаких оснований, но был настолько уверен в невозможности сделать это, как не сомневался в том, что не смогу одним махом перепрыгнуть через высокое здание. Я мог винить (и винил) в этом свой уровень серотонина. Я не думаю, чтобы существовало какое-нибудь убедительное объяснение тому, что депрессивный бред принимал в XVII веке данные формы; мне представляется, что, пока не начали появляться научные объяснения и средства против депрессии, люди придумывали для своих страхов некие объяснительные каркасы. Ведь только в более зрелых обществах человек может бояться прикасаться к чему-либо, стоять или сидеть без конкретизации этого страха, будто он обусловлен стеклянным скелетом; только среди развитого окружения человек может испытывать иррациональный страх жары, не объясняя его страхом растайть. Эти бредовые идеи, которые вполне могут озадачить современного клинициста, легче понять, если увязать с соответствующим контекстом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: