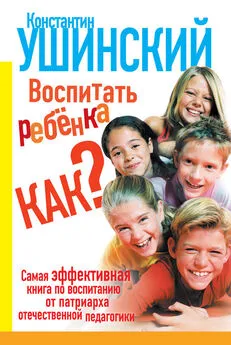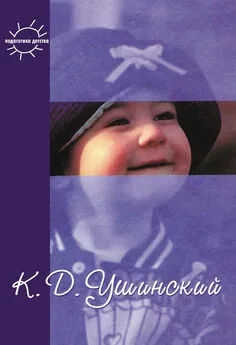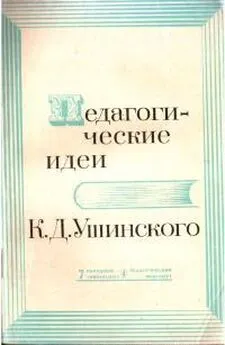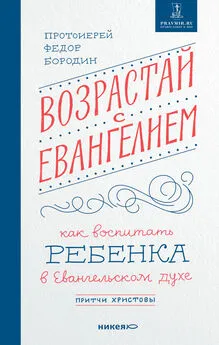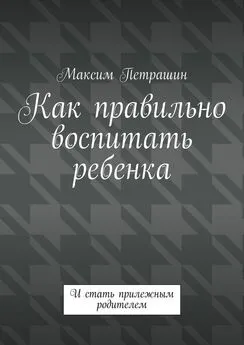Константин Ушинский - Воспитать ребенка как?
- Название:Воспитать ребенка как?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-086269-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Ушинский - Воспитать ребенка как? краткое содержание
Вы узнаете:
– как правильно воспитать и обучить вашего ребёнка;
– как формировать полезные привычки и навыки;
– как развивать ребёнка физически и обеспечить ему правильное питание;
– как приучить к труду;
– что делать, если ребёнок ворует;
– как совладать с детским упрямством;
– в чем причины детской рассеянности, зависти, злобы и что с ними делать;
– как помочь ребёнку запоминать необходимую информацию
– и многое другое.
Перед вами – уникальные методики от великого русского педагога, проверенные на нескольких поколениях.
Воспитать ребенка как? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Точно так же, как наши руки и ноги, действует и наш голосовой орган. Так называемые докучные присловья (того, разумеется, собственно, говорит, теперича, батенька мой и т. п.) становятся нередко непреодолимыми привычками у многих людей. Замечая за собою подобную привычку, укоренившуюся неведомо как, человек нередко пробует бороться с нею, и борется не всегда удачно.
Пока внимание его сосредоточено на том, чтоб не произнести докучного словца, – он и не произносит его, но зато чувствует, как ему трудно говорить: внимание его раздвоено, и он, заботясь о том, чтобы не произнести затверженного присловья, не может сосредоточиться на содержании того, что говорит. Но если он увлечется содержанием того, что говорит, то обычное присловье начнет выскакивать само собою.
То же самое случается и тогда, если человек заучит какое-нибудь слово с неправильным ударением, и это показывает нам, что не только звуки, составляющие слово и их порядок, но и взаимные отношения звуков суть только привычки голосового аппарата. Еще страннее то явление, когда мы бессознательно переставляем слоги, как будто делаем опечатки в устной речи; слог одного слова мы приставляем к другому; но потом пропущенный слог ставим к третьему слову совершенно некстати. Почти то же самое замечается и в целом ряде слов: так, например, если мы заучили, что называется, назубок какие-нибудь стихи или молитвы, то вместе с тем получаем возможность произносить их и в то же время думать о другом; а это было бы невозможно, если бы произнесение заученного было только делом сознания, и в него не вмешивалась рефлективная способность голосовых органов, которые, будучи двинуты в известном направлении, продолжают работать почти сами, как работают ноги, когда мы ходим, погруженные в глубокую думу.
Замечательно, что если при таком механическом произнесении стихов случится нам вдуматься в содержание того, что мы произносим, то вдруг язык наш замедляется, путается, останавливается, и часто мы забываем то, что, казалось, невозможно было позабыть. Отчего это? Оттого, что сознание вмешалось в дело голосовых органов и помешало им работать.
Еще замечательнее то явление, что мы от продолжительной привычки к известным стихам или фразам получаем возможность не только произносить их вслух, думая о чем-нибудь другом, но даже произносить их умственно, как говорится про себя, и в то же время думать о другом. Такое молчаливое произношение слов, речей, молитв, стихов и т. п. играет очень важную роль вообще в нашей психической деятельности, и есть полное основание предполагать, что всегда, когда мы думаем словами, голосовые органы наши слегка шевелятся, не издавая звука. Не только говоря, но даже думая трудное для произношения нашего слово, мы как бы запинаемся в мыслях, т. е. ощущаем некоторую неловкость в голосовых органах и преодолеваем эту трудность иногда с таким успехом, что, произнося потом это слово вслух, произносим его уже правильно: то есть мы упражняем мускулы голоса без звука, как можно упражнять руку на фортепиано без струн.
Заучивая урок, ученик иногда также беззвучно произносит его более или менее ясно, и от степени этой ясности зависит уменье его отвечать потом вслух. Если ученик заметит только мысль, но не приучит свои голосовые органы к течению звуков, выражающих эту мысль, то будет при ответе заикаться и путаться. Вот почему дитя, еще не привыкшее к беззвучному произношению читаемого, инстинктивно учит урок вслух, выкрикивает его, то есть, другими словами, приучает свои голосовые органы к движениям в данном порядке.И так как выработка голосовых органов есть дело очень важное, то такое учение вслух необходимо; но, конечно, ученье вообще далеко не должно этим ограничиваться.
Особенно важно такое упражнение голосовых мускулов при изучении иностранных языков. На основании этого психофизического явления должно приучать ребенка учить вслух, потом учить глазами, произнося в то же время слова без звука, и, наконец, только тогда уже замечать одни мысли, когда дитя, или, лучше сказать, юноша, может вполне положиться на выработку своих голосовых органов. Но этим я никак не хочу сказать, чтобы дитя не должно было приучать к самостоятельной передаче своих мыслей в самостоятельно вырабатываемой фразе. Это необходимо, и притом с самого начала учения; но учитель должен сознавать трудность этого, уже творческого процесса, всю бедность детского запаса в словах и выражениях и, следовательно, упражнять в этом дитя постепенно, обогащая его в то же время затверженными, но хорошо сознанными словами и выражениями. Одно так же необходимо, как и другое.
При сильном возбуждении органа зрения, закрывая глаза, мы совершенно неправильно видим образы, сменяющие друг друга. Взглянув мельком на предмет, мы с трудом восстановляем его в нашем органе зрения; но чем чаще видим мы предмет, тем легче нам это удается; а если мы долго и внимательно рассматриваем его, то он может потом рисоваться в нашем органе зрения без нашей воли. Словом, и в акте зрения, как и в акте слуха или голосовых органов, мы замечаем возможность механической привычки, т. е. возможность механической памяти.
Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею илегче потом вспоминаются.Мы скорее и прочнее заучим иностранные слова, если пустим при этом в ход не один какой-нибудь, а три или четыре органа нашей нервной системы: если мы будем читать эти слова глазами, произносить вслух голосовым органом, слушать, как произносим сами или как произносят другие, и в то же время писать их на доске или в тетради; и если потом один из наших органов ошибется, например голосовой, то слух скажет нам, что мы ошиблись и что это не то чуждое слово, которое он привык связывать с тем или другим русским словом; если ошибутся слух и голос, то поправит зрение; даже привычка руки может оказать свое заметное содействие: так, очень часто случается, что человек, забывши, с какой буквой пишется слово, прибегает к помощи своей руки, которая, привыкши писать слово с той или с другой буквой, пишет его верно. Вот почему безошибочная орфография приобретается тоже и упражнением руки.
Из этого мы можем вывести прямо, что педагог, желающий что-нибудь прочно запечатлеть в детской памяти, должен позаботиться о том, чтобы как можно больше органов чувств – глаз, ухо, голос, чувство мускульных движений и даже, если возможно, обоняние и вкус приняли участие в акте запоминания. Паук потому бегает так изумительно верно по тончайшим нитям, что держится не одним когтем, а множеством их: оборвется один, удержится другой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: