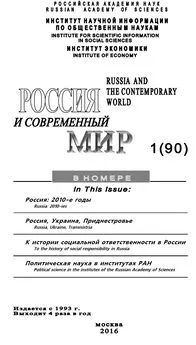Юрий Игрицкий - Россия и современный мир №1 / 2016
- Название:Россия и современный мир №1 / 2016
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Игрицкий - Россия и современный мир №1 / 2016 краткое содержание
Россия и современный мир №1 / 2016 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Если и дальше самоопределяться в русской исторической темпоральности, то, несомненно, мы вступим во «время Карамзина».
Так двадцать пять лет назад я назвал статью – предисловие к публиковавшейся мною в издательстве «Наука» «Записке о древней и новой России». Пытался объяснить, почему нам так важен и актуален Николай Михайлович. – Но теперь я понимаю: время Карамзина пришло сегодня. Тогда его начали печатать в особо крупных размерах, в том числе и то, что советскому человеку было совершенно недоступно. Ныне же двести пятьдесят лет со дня рождения великого человека и двести – с момента выхода в свет первого тома «Истории государства Российского». Серьезные даты, значительные! Но не это самое важное. На дворе эпоха, созвучная его идеям. Акмэ консерватизма: «требуем более мудрости хранительной, нежели творческой» 2 2 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. – М.: Наука, 1991. – С. 63.
; «всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надо прибегать только в необходимости»; «для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу» 3 3 Там же. – С. 74.
. Торжество трезвого реализма в международных отношениях: в 1815 г. он писал Александру I: «Вы думаете восстановить Польшу в ее целостности, действуя, как христианин, благодаря врагам. Государь! Вера христианская есть тайный союз человеческого сердца с Богом… Она выше земли и мира… Солнце течет и ныне по тем же законам, по коим текло до явления Христа-Спасителя; так и гражданские общества не переменили своих коренных уставов: все осталось как было на земле и как иначе быть не может» 4 4 Цит. по: Миллер О.Ф. Славянство и Европа. – СПб., 1887. – С. 274.
. Смысл этого обращения заключался в следующем. Политика, и международная прежде всего, не подпадают под действие высшего нравственного закона. Здесь нет места для христианской морали и господствуют принципы Realpolitik. – И самое главное: мы являемся свидетелями уверенного возвращения в нашу жизнь самодержавной власти, т.е. ничем не ограниченной власти одного. Карамзин полагал это важнейшим (из необходимых) условием успешного бытования России в истории. Самодержавие есть «палладиум России», утверждал он. Да, его время.
…Я же скажу: сводить русскую историю к некоему вечному, аутентичному самодержавию – и методологическая, и нравственная ошибка. То, что простительно Карамзину, – он ведь вывел свою концепцию из доступных ему материалов, – разумеется, непозволительно нам.
Недаром Н.Я. Эйдельман назвал его последним летописцем. Карамзинская концепция выросла из летописных текстов, в которых прежде всего фиксировались деяния власти. Все же остальное во многом оставалось за их пределами – и, следовательно, за пределами его внимания. Несомненно, на него повлияли и работы немецких специалистов, призванных Екатериной составить русскую историю в самодержавно-романовском духе. Не забудем и то, что Карамзин был поздним современником передряг XVIII в.: дворцовые перевороты, пугачевщина, во всем неустойчивость и непредсказуемость. Ясно, что он хватался за самодержавие как за спасительный круг – никогда не подведет. Хотя этим, разумеется, не исчерпывается вся палитра политических воззрений Николая Михайловича. Она была шире, современнее и, если можно так сказать, качественнее.
Однако и сегодня, в период интенсивного «цезаризма», немногим удается избежать искушения самодержавством. Это, кстати, проявляется не только в неподдельной любви россиян к президенту, но и в искреннем сталинобесии нашего общества, и вновь вспыхнувшем интересе к Ивану Грозному и Петру Великому, в исторической реабилитации Николая I и Александра III. При одновременном, идущем от сердца, презрении и ненависти к «оттепельным» фигурам и эпохам.
Свою задачу я вижу не в том, чтобы полемизировать с народной любовью или народным отрицанием. Дело это бессмысленное. Сердцу ведь не прикажешь. А у нас, как известно, голосуют только этим органом. Нет, мне хотелось бы показать, что в русской истории было и есть много чего несамодержавного, да и само самодержавие (в разных его временны´ х вариантах) – штука сложная, противоречивая, не сводимая к какому-нибудь ее идеальному типу.
Мне, конечно, напомнят, что все это хорошо известно. Так-то оно так. Но, думаю, время от времени необходимо говорить об этом. Особенно в эпохи массовидной любви к тому историческому явлению, которое Карамзин назвал «палладиумом России».
А еще я напомню «моим» напоминателям, что представители следующего за Николаем Михайловичем поколения подвергли ревизии его власте-центричные воззрения. Никита Муравьев посмел утверждать, что история принадлежит не царям, а народам. Петр Чаадаев в письме своему парижскому корреспонденту графу де Сиркуру сообщал, что у нас в России все – плохое и хорошее – из православия. На десятилетие старше их Сергей Уваров свел карамзинское, муравьевское, чаадаевское в своей известной триаде – «Православие. Самодержавие. Народность». Ну, а потом пришли другие объяснители главного в русской истории – западники (юридическая школа), славянофилы (эдакое православное, соборное «гражданское общество») и т.д.
В связи с актуальностью карамзинско-самодержавной темы на ум приходит вот что.
У русской исторической науки, в целом великой и убедительной, есть одно, как мне кажется, «слабое» качество. Вся она настроена антибоярски, т.е. антиаристократично. Прошлое прочитывается с разных научных и идейных позиций, создана вполне стереоскопическая «картинка». Но через боярскую «призму» на нее не смотрели. Напротив, роль боярства в отечественной истории всегда трактуется с обвинительным уклоном. Даже такими учеными, как С.Ф. Платонов. А он был очень осторожен, точен, судил взвешенно и спокойно.
«Царь – хороший, бояре – плохие». Это народный приговор на все и во все времена. И любимые наши властители – те, кто рубит этим плохим головы. Ставит на их место опричников, т.е. людей случайных. «Перебрать людишек» – это ведь прежде всего о боярах. Нет ни одной попытки боярства ограничить самодержавие и получить свою долю в управлении, которая в науке и исторической памяти была бы одобрена. Что самибоярщина при маленьком Иване (будущем) Грозном, что боярская активность в период Смуты, что действия верховников в 1730-е, что… Сегодня можно узнать, что сталинский «большой террор» стал защитной реакцией Хозяина на агрессивную атаку на него партийных бояр. Которые-де пытались воспрепятствовать ему ввести демократию в СССР.
А как испугалось окружение Александра I, узнав, что в конституционном проекте М.М. Сперанского предполагалось создание Госсовета, формируемого из представителей крупнейших аристократических родов. Иными словами, Михаил Михайлович хотел завести у нас палату лордов. Мне ни разу не встретился хоть один сочувственный отклик на эту инициативу великого человека.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: