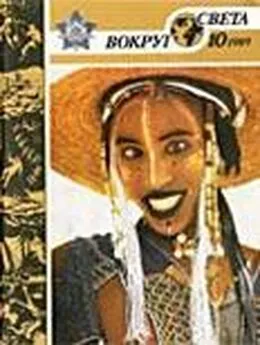Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №10 за 1989 год
- Название:Журнал «Вокруг Света» №10 за 1989 год
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вокруг Света - Журнал «Вокруг Света» №10 за 1989 год краткое содержание
Журнал «Вокруг Света» №10 за 1989 год - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Святые места» нельзя разрушать. До тех пор, пока человек будет испытывать ужас и давление непредсказуемой мировой истории, у него должна быть защита в виде священного пространства. Даже в утопическом обществе будущего, которое решит все социальные проблемы, «святое место» должно остаться, как возможность свободного выбора. Современный атеизм слишком разумен, чтобы быть милосердным. А Туркмения по детской смертности занимает одно из первых мест в Союзе. Я бы не писал об этом, если бы не знал о разрушении «святых мест».
Во время путешествия я купил книгу «Вопросы и ответы», изданную в 1986 году Академией общественных наук Узбекистана. На вопрос о «так называемых святых местах» дан бдительный ответ: «Это самые живучие религиозные пережитки». И далее: «У «святых мест» скапливаются паломники, распространяются религиозные идеи и настроения, что оказывает отрицательное влияние на духовную жизнь, здоровье людей, наносит материальный ущерб общественному производству и семейному бюджету». Не под звон ли этих аргументов в нашей истории взрывали церкви в 20—30-х годах, а также в 60-х; последняя волна силовых аргументов прокатилась в 70-х, за несколько месяцев до принятия «закона об охране памятников», превратив в пыль уцелевшие чудом храмы. Речь идет не о том, чтобы брать «святые места» кавалерийскими наскоками или измором, а о том, чтобы оставить их в покое; уж сказано тому две тысячи лет: «богу — богово, человеку— человеческое».
На одиннадцатый день путешествия мы прибыли в Бухару. Поставили свои палатки в городском парке на берегу озера, недалеко от базара. Сквозь густую листву деревьев сверкал на солнце узорной кладкой мавзолей Саманидов, жемчужина средневековой Бухары. Утром, оставив рюкзаки в чайхане, отправились на базар. Призывный грохот бубнов возвестил о начале циркового представления. Толпа зрителей окружала площадку, застланную яркими коврами. Высоко над головами зрителей на стальной нити балансировал мальчик-канатоходец. Вдруг он остановился и, устремив взор к небу, заговорил. Мне перевели: мальчик просил милости у аллаха всем бездетным женщинам. Щедрым дождем посыпались на ковер деньги. Гремела музыка, перекрывая шум базара; клоуны зазывали зрителей. Представление закончилось любопытным зрелищем. Силач лег спиной на ковер, и на него положили две длинные и широкие доски, скрепленные на концах. С одного края на эти доски медленно-медленно въехала «Волга». Смысл номера заключался в том, что машина должна переехать силача. Зрители сгрудились вокруг помоста, вглядываясь в лицо лежащего человека. А вдруг он не выдержит? Машина мгновенно промчалась по доскам, их тут же убрали, а силач поднялся как ни в чем не бывало. Как и большинство зрителей, я не знаю, был ли этот фокус подстроен или действительно силач способен выдержать вес полуторатонного автомобиля.
В древности были так называемые «города мира»— Вавилон, Рим, Бухара в том числе. Такие города существуют и сегодня. Отличительная их черта — открытость иным влияниям, «столпотворение языков и народов», что, безусловно, влияет на взгляды и поведение самих горожан. Ни в одном кишлаке или городке Средней Азии нельзя нарядиться в шорты — это будет расценено как вызов общественному мнению. Бухару же посещает великое множество иностранцев, в том числе западных немцев, которые ходят в шортах. В восприятии бухарцев понятия «иностранец» и «шорты» слиты воедино и ассоциируются с чем-то совершенно чужим, «внеконтактным». Облачившись в шорты, я превратился в «иностранца» со всеми вытекающими последствиями этого превращения...
Двигаясь по древнему торговому пути вдоль Амударьи, на 18-й день путешествия мы добрались до Хорезма. Когда-то здесь встречались караваны со всего света. Не выезжая из Хорезма, можно было выучить десятки чужих языков, в том числе и греческий. В древнем Хорезме торговые караваны, перед тем как отправиться через пустынные степи, делали большую остановку. Вот несколько свидетельств Ибн-Фадлана: «Мы запаслись хлебом, просом, сушеным мясом на три месяца». Эти продукты питания характерны и для современных кочевников Центральной Азии. За время путешествия мы не раз видели, как сушатся на воздухе куски мелко нарезанной баранины. «Мы купили тюркских верблюдов и велели сделать дорожные мешки из верблюжьих кож для переправы через степные реки». Подобные круглые лодки, сделанные из кожи, использовались еще жителями древнего Вавилона и подробно описаны Геродотом. Назывались они—«гуфы». В гуфах и по сей день плавают по Тигру и Евфрату жители Ирака. «Снаряжение каравана было хорошо налажено, мы наняли проводника по имени Фанус из жителей Джурджании». Хотя караванная торговля в Средней Азии стала историческим преданием, и сегодня можно встретить «ишчи» — проводника караванов. Так на наших глазах оживала история...
На вездеходе мы обследовали крепости, сигнальные башни и пещеры Устюрта. Вечер провели в гостях у туркмен, которые угостили нас верблюжьим молоком и традиционным чаем. Наше внимание привлекало все: и глиняный очаг, где почти мгновенно закипал чайник; и яркие краски женских одежд, и детские украшения, и устройство юрты. С разрешения хозяина мы вошли в сумрачное пространство юрты и попали в мир вещей, практичность и красота которых оценена десятками поколений кочевников. Это и кожаные бурдюки, и цветные кошмы, и знаменитые туркменские ковры. Точно такие же вещи мог видеть Ибн-Фадлан.
За вечерним чаем зашел разговор о тамгах. В степи каждый хозяин метит верблюдов тамгой, ставя раскаленным тавро знак на шее животного. История тамги как родового клейма владельца уходит в глубину времен. Хозяин юрты без труда зарисовал в мой дневник восемь знаков — тамг своих степных соседей. Но вот как быть с совхозными верблюдами? По логике, им нужна «общественная» тамга. Но большинство совхозов в нашей стране носят имена Маркса и Ленина... Вы догадываетесь, чьи имена были написаны синей краской на боках «коллективных» верблюдов? Я уверен, что здесь нет и намека на кощунство. Это пример так называемого «бытового» марксизма, и он стоит в одном ряду с фактами, имевшими место в России в 20-е годы, когда комсомольские работники в «борьбе за массы» на место поверженных икон в красном углу избы помещали портрет К. Маркса...
Изменения названий в 30-е и последующие годы носили массовый характер, и в результате в некоторых районах топонимическая ситуация выглядит сегодня трагикомически. Взгляните на карту Туркмении, где земледельческое население в силу природных условий живет оазисами,— вы увидите сплошные «Коммунизмы» и «Социализмы». Представьте себе, что происходит на уровне бытового общения: «Ты где живешь?»—«В «Коммунизме».— «А ты где?»—«А я в «Социализме». Конечно, можно предположить, что подобные названия совхозов и каналов говорят о приверженности людей труда лучшим идеалам человечества. Но путешествовать по такой карте в поисках поселений курдов, белуджей, фарси и арабов было практически невозможно. Этнографические краски традиционной топонимики стерты, их заменили обезличенные «измы». Возвращение традиционной топонимики, и не только в Средней Азии и Казахстане,— это восстановление народной памяти.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: