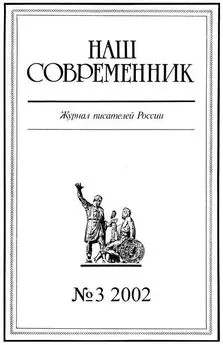Журнал «Наш cовременник» - Наш Современник, 2002 № 03
- Название:Наш Современник, 2002 № 03
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал «Наш cовременник» - Наш Современник, 2002 № 03 краткое содержание
Наш Современник, 2002 № 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Что до «общества друзей», то во многом именно Александру I эпоха, вероятно, обязана расцветом культа дружбы. Вспомним, надо полагать, вполне искреннюю и многолетнюю привязанность императора к А. А. Аракчееву, хотя, разумеется, в дружбе начальника и подчиненного всегда присутствует некая ущербность. Другое дело дружба равных или, по крайней мере, близких по своему социальному положению персон. И здесь российский император не раз демонстрировал образцы самых возвышенных «сердечных чувств», порой даже, по мнению многих современников и историков, за счет государственных интересов. Взять хотя бы впечатляющую романтическую сцену осенней полуночью 1805 г. в склепе гарнизонной церкви Потсдама: здесь Александр I и прусский король Фридрих-Вильгельм III над гробом Фридриха Великого поклялись друг другу в вечной дружбе. Что касается русского императора, то он оставался верен этой «нежнейшей», по словам самого Александра, дружбе до конца. И не так уж не прав, возможно, кн. Адам Чарторыйский, писавший своему государю: «Интимная дружба, которая связала Ваше императорское величество с Королем после нескольких дней знакомства, привела к тому, что Вы перестали рассматривать Пруссию, как политическое государство, но увидели в ней дорогую Вам особу, по отношению к которой признали необходимым руководствоваться особыми обязательствами». Этими особыми обязательствами, по мнению многих, объясняются зарубежные выступления русской армии на стороне Пруссии в антинаполеоновских войнах начала века, что далеко не всегда отвечало политическим целям России.
А чего стоит не менее выразительная сцена в феврале 1808 г. в эрфуртском театре во время представления вольтеровского «Эдипа», которое первый состав «Комеди Франсез» давал перед «партером королей» (здесь помимо сидевших рядом Александра и Наполеона присутствовали все вассальные по отношению к Франции государи и другие владетельные особы). Как только Ф. Ж. Тальма в роли Филоктета произнес со сцены реплику: «Дружба великого человека — вот подарок богов!» — Александр воскликнул: «Вот слова, сказанные для меня!» — встал и обнял (по другой версии только пожал руку) Наполеона под бурную овацию всего зала. Как тут не процитировать чичиковское рассуждение: «О, это справедливо. Это совершенно справедливо!.. Что все сокровища тогда в мире! „Не имей денег, имей хороших людей для обращения“, сказал один мудрец!»
И даже к «деликатной» реплике Манилова в ответ на предложение Чичикова «иметь мертвых» крестьян: «Как-с? извините… я несколько туг на ухо…» в данном контексте можно отнестись буквально и с полным доверием. Ведь хорошо известно, что Александр Павлович был глуховат на левое ухо. Причиной этому называют разное: кто открытые окна спальни младенчествующего внука Екатерины Великой в Зимнем дворце во время пушечной пальбы с пристани «в отведенные часы», кто частое присутствие юного великого князя на батарейных стрельбах при учениях отцовского гатчинского гарнизона.
Что же касается «отчасти греческих» имен сыновей Манилова: Фемистоклюс и Алкид, то первой стала давать своим внукам подобные «небывалые в нашем царствующем доме» (Н. К. Шильдер) имена как раз Екатерина II. Историки издавна связывают такое отступление от династической традиции со знаменитым «греческим проектом» императрицы. Имя старшего из внуков, данное в честь святого благоверного князя Александра Невского, должно было напоминать и о вселенском наследии Александра Македонского. Имя же второго, крещенного в память святого равноапостольного римского императора Константина Великого, окончательно перенесшего столицу своей империи в Византию и переименовавшего ее в 330 г. в Константинополь (град Константина), свидетельствовало о проекте воссоздания Восточной, Греческой империи (после освобождения ее от турецкой власти) под эгидой России [10] Ср.: Архангельский А. Н. Александр I. М., 2000, с. 18–19; Ср. также: Лихачев Д. С. Избранные работы… Т. 3, с. 250. Ясно, что Николай I, называя теперь уже своих детей Константином (именем пepвого и последнего византийского императора) и, так же как и своего младшего брата, Михаилом — именем будущего библейского «великого князя», защитника веры и народа, согласно, в частности, пророчеству Даниила (12,1), следовал традиции, установленной Екатериной II. Кстати сказать, его собственное имя Николай — побеждающий народ ( греч .), полученное от нее же, никогда до той поры не встречалось ни в династии Рюриковичей, ни у Романовых. Любопытно, что имена сыновей Манилова в том виде, в каком они указаны у Гоголя, в православных святцах вообще не упоминаются. Хотя, конечно, латинизированное имя будущего «посланника» может восходить к имени мирликийского мученика 251 г. Фемистоклея (день памяти 21 декабря), а имя его младшего брата, возможно, образовано от имени другого мученика «в огне» — Алкивиада (день памяти 16 августа). См.: Сергий (Спасский) , архиеп. Полный месяцеслов Востока (репринт. изд. 1902), T. II, M., 1997, c. 248, 390.
. Сохранились сведения о том, что подобные планы «возобновления» Священной Римской (Западной) и Византийской (Восточной) империй Наполеон и Александр I обсуждали во время свидания в Эрфурте. Впрочем, на такое разделение мира между собой и русским императором Наполеон рассчитывал совсем недолго. В его «рукаве» таился не менее грандиозный проект: в случае успешного покорения России обратить все свои силы против турок и захватить Константинополь уже самостоятельно.
Даже потерпевший поражение, свергнутый и сосланный на о. Эльба Наполеон должен был вернуться, «воскреснуть», дабы в очередной раз подтвердить свою сверхъестественную природу. С особой очевидностью это проявилось, конечно, во время Ста дней. Свидетели «второго пришествия» Наполеона, его высадки на французский берег, триумфальных столкновений с посланными против него войсками в один голос говорят о вернувшемся императоре как о «воскресшем Мессии». О том же рассказывает очевидец торжественного, на руках внесения Наполеона в Тюильрийский дворец: «Те, кто нес его, были, как сумасшедшие, и тысячи других были счастливы. Когда и удавалось поцеловать одежды его или только прикоснуться к ней… Мне казалось, что я присутствую при воскресении Христа» [11] Thiebault R. Memoires. P. 1892. T. 5. P. 298.
. В этот же ряд можно поставить и известное определение Г. Гейне — «евангелие», которое поэт, как известно, дал в своем сочинении «Идеи. Книга Ле Гран» (1826) мемуарам близких к Наполеону людей (Лас Каза, врачей О’ Мира и Антоммарки).
И даже смерть Наполеона не поколебала представления о нем как о существе сверхъестественном. В этом смысле весьма характерны два знаменитых стихотворения: «Ночной смотр» (1836) Жуковского-Цейдлица и «Воздушный корабль» (1840) Лермонтова-Цейдлица с их смысловым рефреном: «Из гроба встает император…» Особенно, если учесть, что за поэтическим (романтическим) образом встающего «в двенадцать часов по ночам» из гроба полководца, делающего смотр своим погибшим войскам, и образом одинокого кормчего волшебного корабля-призрака, не находящего на родной земле никого, кто бы мог продолжить его великое дело, последовал образ графический. Это изображение к тому же явно учитывало необычное состояние покойного властелина мира даже в гробу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: