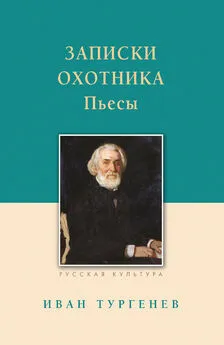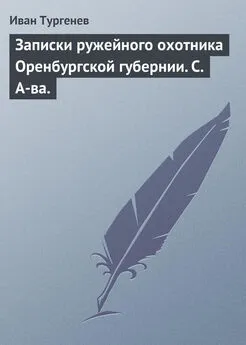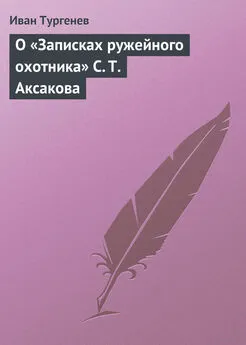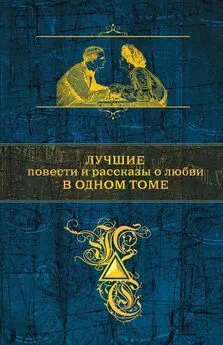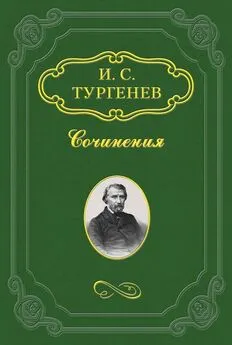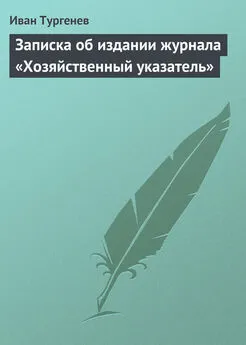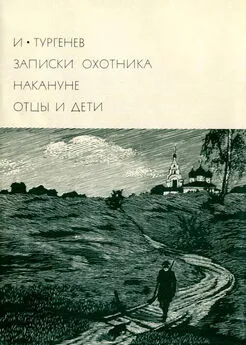Иван Тургенев - Записки охотника. Рассказы. Пьесы
- Название:Записки охотника. Рассказы. Пьесы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00119-020-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Тургенев - Записки охотника. Рассказы. Пьесы краткое содержание
В настоящее издание вошел знаменитый цикл рассказов «Записки охотника», появившихся в печати на рубеже сороковых и пятидесятых годов XIX века, первое по времени большое произведение И. С. Тургенева, принесшее ему славу одного из лучших пейзажистов мировой литературы.
Помимо рассказов в сборник включены пьесы И. С. Тургенева. Драматургия составляет особую и существенную часть творческого наследия писателя, создавшего свою драматургическую систему и оказавшего заметное влияние на развитие русской драматической литературы и театра.
Тексты, вошедшие в сборник, составленный известным российским литературоведом, доктором филологических наук, профессором Д. П. Ивинским, сопровождаются его развернутыми научными комментариями, им же подготовлена развернутая вступительная статья о творчестве И. С. Тургенева.
Записки охотника. Рассказы. Пьесы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Романтизм, апеллирующий к духу, к внутреннему пробуждению, к самодостаточности идеального, сталкивался с реальностью народного быта и обусловленных им границами самосознания и возможностями духовного развития: эти границы оказывались почти непреодолимыми, эти возможности ничтожными. В сложившейся ситуации оставались две основные возможности.
Первая: признать народ телесной субстанцией и относиться к нему и обращаться с ним соответствующим образом (как и поступают тургеневские крепостники из «Записок охотника»).
Вторая: ревизовать этот приговор, увидев в крепостном человека не только страдающего, но и способного интуитивно постигать значение жизни и смерти, не только обреченного на подчинение, но и способного выразить доминанты национального характера. Приведем здесь небольшой фрагмент из очерка «Бежин луг», отмеченный заинтересованным вниманием рассказчика к скрытым возможностям персонажей: «У <���…> Павлуши <���…> волосы были всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, – что и говорить! – а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. <���…> Лицо <���…> Ильюши было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились – он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. <���…> Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, – на его языке по крайней мере, – не было слов» («Записки охотника»). Как видим, здесь последовательно, даже прямолинейно не вполне приглядной телесности противопоставляются более глубокие особенности, которые и вызывают интерес автора и читателя: упоминания об огромной голове и неуклюжем приземистом теле сочетается с указанием на умный взгляд и звучащую в голосе силу; о «худом» и «невеликом» веснушчатом лице другого мальчика – с описанием его задумчивого и печального взгляда, в котором читалось нечто невысказанное или невысказываемое. Тут же еще один мальчик, в облике которого личностные возможности не проявляются, и образ его как бы разделяет эти два описания живых душ (впрочем, мы не знаем, возобладает ли навсегда в лице его эта «тупая, болезненная заботливость»). Еще отрывок, из очерка «Касьян с Красивой Мечи»: «Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь – и, Господи Боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. <���…> А вот как пойдешь, как пойдешь, – подхватил он, возвысив голос, – и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и Богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут, смотришь, трава какая растет; ну, заметишь – сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься – заметишь тоже. Птицы поют небесные… А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот Божия-то благодать! И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости… И вот уж я бы туда пошел… Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромен ходил, и в Симбирск – славный град, и в самую Москву – золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых крестьян, и в городах побывал честных… Ну, вот пошел бы я туда… и вот… и уж и… И не один я, грешный… много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут… да!..
А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, – вот оно что…» («Записки охотника»). Понимание справедливости как внутренней потребности сочетается в этой картине с поэзией природы, народной сказки, с ощущением присутствия Создателя в создании и собственной душе. Иногда герои Тургенева встречаются с Христом, если не наяву, то во сне, как в рассказе «Живые мощи»: «Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая – все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочиста. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: нарву я этих васильков; Вася прийти обещался – так вот я себе венок сперва совью; жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе венок свить. А между тем я слышу – кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: Луша! Луша!.. Ай, думаю, беда – не успела! Все равно, надену я себе на голову этот месяц заместо васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь – по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько – только не Вася, а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, – таким его не пишут, – а только он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом, – только пояс золотой, – и ручку мне протягивает. “Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня в Царстве Небесном хороводы водить будешь и песни играть райские”. И я к его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги… но тут мы взвились! Он впереди… Крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, – и я за ним!» («Записки охотника»).
В лекции «Гамлет и Дон-Кихот» Тургенев разграничивает две стороны человеческой «природы»: вера в идеал и способность к действию и самопожертвованию присущи донкихотскому типу; безверие, аналитизм, эгоизм – гамлетовскому: «Дон-Кихот проникнут весь преданностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнию; самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, справедливости на земле»; ср. о Гамлете: «Он весь живет для самого себя, он эгоист; но верить в себя даже эгоист не может; верить можно только в то, что вне нас и над нами. Но это я , в которое он не верит, дорого Гамлету. Это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, потому что не находит ничего в целом мире, к чему бы мог прилепиться душою; он скептик – и вечно возится и носится с самим собою; он постоянно занят не своей обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всем, Гамлет, разумеется, не щадит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит: он сознает свою слабость, но всякое самосознание есть сила; отсюда проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон-Кихота. Гамлет с наслаждением, преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя – и в то же время, можно сказать, живет, питается этим презрением. Он не верит в себя – и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живет, – и привязан к жизни…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: