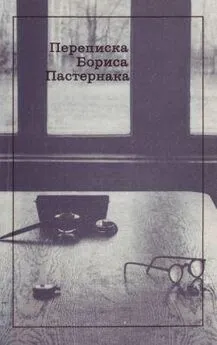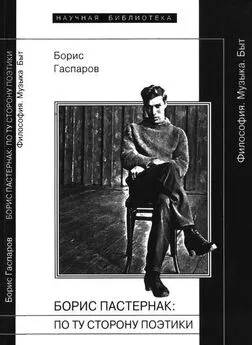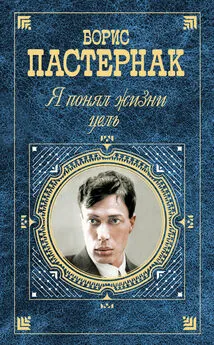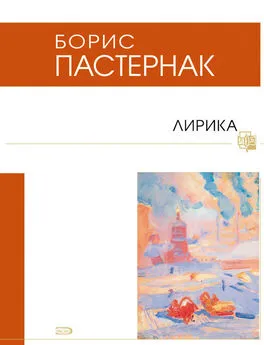Борис Пастернак - Люди и положения (сборник)
- Название:Люди и положения (сборник)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Пастернак - Люди и положения (сборник) краткое содержание
Борис Пастернак – второй после Бунина русский писатель, которому присудили Нобелевскую премию по литературе. Его творчество органично сочетает в себе традиции русской и мировой классики с достижениями литературы Серебряного века и авангарда. В повестях, насыщенных автобиографическими сведениями, в неоконченных произведениях обращает на себя внимание необычный ритм его фраз, словно перешедших в прозу из стихов. В статьях, заметках о поэтах и о работе переводчика автор высказывает свои эстетические взгляды, представления об искусстве, о месте творца в мире и истории. В книгу включены также драматические отрывки, представляющие читателю еще одну грань творчества Бориса Пастернака.
Люди и положения (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Весь остаток пути она не отрываясь провела у коридорного окна. Она приросла к нему и поминутно высовывалась. Она жадничала. Она открыла, что назад глядеть приятней, чем вперед. Величественные знакомцы туманятся и отходят вдаль. После краткой разлуки с ними, в течение которой с отвесным грохотом, на гремящих цепях, обдавая затылок холодом, подают перед самым носом новое диво, опять их разыскиваешь. Горная панорама раздалась и все растет и ширится. Одни стали черны, другие освежены, те помрачены, эти помрачают. Они сходятся и расходятся, спускаются и совершают восхожденья. Все это производится по какому-то медлительному кругу, как вращенье звезд, с бережной сдержанностью гигантов, на волосок от катастрофы, с заботою о целости земли. Этими сложными передвижениями заправляет ровный, великий гул, недоступный человеческому уху и всевидящий. Он окидывает их орлиным оком, немой и темный, он делает им смотр. Так строится, строится и перестраивается Урал.
Она зашла на мгновенье в купе, сощурив глаза от резкого света. Мама беседовала с незнакомым господином и смеялась. Сережа ерзал по пунцовому плюшу, держась за какой-то ременной настенный рубезок. Мама сплюнула в кулачок последнюю косточку, сбила оброненные с платья и, гибко и стремительно наклонясь, зашвырнула весь сор под лавку. У толстяка, против ожиданий, был сиплый, надтреснутый голосок. Он, видимо, страдал одышкой. Мать представила ему Женю и протянула ей мандаринку. Он был смешной и, вероятно, добрый и, разговаривая, поминутно подносил пухлую руку ко рту. Его речь пучилась и, вдруг спираемая, часто прерывалась. Оказалось, он сам из Екатеринбурга, изъездил Урал вдоль и поперек и прекрасно знает, а когда, вынув золотые часы из жилетного кармана, он поднес их к самому носу и стал совать обратно, Женя заметила, какие у него добродушные пальцы. Как это в натуре полных, он брал движением дающего, и рука у него все время вздыхала, словно поданная для целованья, и мягко прыгала, будто била мячом об пол.
– Теперь скоро, – кося глаза, криво протянул он вбок от мальчика, хотя обращался именно к нему, и вытянул губы.
– Знаешь, столб, вот они говорят, на границе Азии и Европы, и написано: «Азия», – выпалил Сережа, съезжая с дивана, и побежал в коридор.
Женя ничего не поняла, а когда толстяк растолковал ей, в чем дело, она тоже побежала на тот бок ждать столба, боясь, что его уже пропустила. В очарованной ее голове «граница Азии» встала в виде фантасмагорического какого-то рубежа, вроде тех, что ли, железных брусьев, которые полагают между публикой и клеткой с пумами полосу грозной, черной, как ночь, и вонючей опасности. Она ждала этого столба, как поднятия занавеса над первым актом географической трагедии, о которой наслышалась сказок от видевших, торжественно волнуясь тем, что и она попала и вот скоро увидит сама.
А меж тем то, что раньше понудило ее уйти в купе к старшим, однообразно продолжалось: серому ольшанику, которым полчаса назад пошла дорога, не предвиделось скончанья, и природа к тому, что ее вскорости ожидало, не готовилась. Женя досадовала на скучную, пыльную Европу, мешкотно отдалявшую наступление чуда. Как же опешила она, когда, словно на Сережин неистовый крик, мимо окна мелькнуло, и стало боком к ним, и побежало прочь что-то вроде могильного памятничка, унося на себе в ольху от гнавшейся за ним ольхи долгожданное сказочное название! В это мгновение множество голов, как по уговору, сунулось из окон всех классов, и тучей пыли несшийся под уклон поезд оживился. За Азией давно уже числился не один десяток прогонов, а все еще трепетали платки на летевших головах, и переглядывались люди, и были гладкие и обросшие бородой, и летели все, в облаках крутившегося песку, летели и летели мимо все той же пыльной, еще недавно европейской, уже давно азиатской ольхи.
IV
Жизнь пошла по-новому. Молоко не доставлялось на дом, на кухню, разносчицей; его приносила по утрам Ульяша парами, и особенные, другие, не пермские булки. Тротуары здесь были какие-то не то мраморные, не то алебастровые, с волнистым белым глянцем. Плиты и в тени слепили, как ледяные солнца, жадно поглощая тени нарядных деревьев, которые растекались, на них растопясь и разжидившись. Здесь совсем по-иному выходилось на улицу, которая была широка и светла, с насаждениями.
– Как в Париже, – повторяла Женя вслед за отцом.
Он сказал это в первый же день их приезда. Было хорошо и просторно. Отец закусил перед выездом на вокзал и не принимал участия в обеде. Его прибор остался чистый и светлый, как Екатеринбург, и он только разложил салфетку, и сидел боком, и что-то рассказывал. Он расстегнул жилет, и его манишка выгнулась свежо и мощно. Он говорил, что это прекрасный европейский город, и звонил, когда надо было убрать и подать еще что-то, и звонил, и рассказывал. И по неизвестным ходам из еще не известных комнат входила бесшумная белая горничная, вся крахмально-сборчатая и черненькая, ей говорилось «вы», и, новая, – она, как знакомым, улыбалась барыне и детям. И ей отдавались какие-то приказания насчет Ульяши, которая находилась там, в неизвестной и, вероятно, очень-очень темной кухне, где, наверное, есть окно, из которого видно что-нибудь новое: колокольню какую-нибудь, или улицу, или птиц. И Ульяша, верно, расспрашивает сейчас там эту барышню, надевая что похуже, чтобы потом заняться раскладкой вещей; спрашивает, и осваивается, и смотрит, в каком углу печь, в том ли, как в Перми, или еще где.
Мальчик узнал от отца, что в гимназию ходить недалеко, совсем поблизости, – и они должны были ее видеть, проезжая; отец выпил нарзану и, глотнув, продолжал:
…Неужели не показал? Но отсюда ее не видать, вот из кухни, может быть (он прикинул в уме), и то разве крышу одну.
Он выпил еще нарзану и позвонил.
Кухня оказалась свежая, светлая, точь-в-точь такая, – уже через минуту казалось девочке, – какую она наперед загадала в столовой и представила, – плита изразцовая, отливала бело-голубым, окон было два, в том порядке, в каком она того ждала; Ульяша накинула что-то на голые руки, комната наполнилась детскими голосами, по крыше гимназии ходили люди и торчали верхушки лесов.
– Да, она ремонтируется, – сказал отец, когда они прошли все чередом, шумя и толкаясь, в столовую, по уже известному, но еще не изведанному коридору, в который надо будет еще наведаться завтра, когда она разложит тетрадки, повесит за ушко свою умывальную перчатку и, словом, покончит с этой тысячей дел.
– Изумительное масло, – сказала мать, садясь.
А они прошли в классную, которую ходили смотреть еще в шапках, только приехав.
– Чем же это – Азия? – подумала она вслух.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: