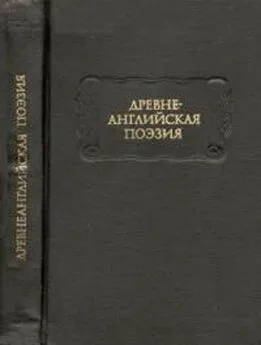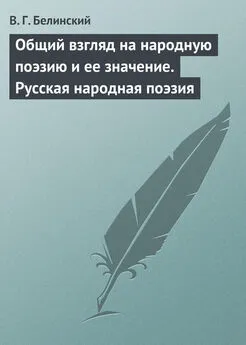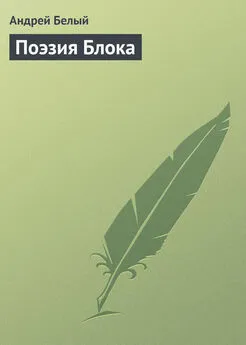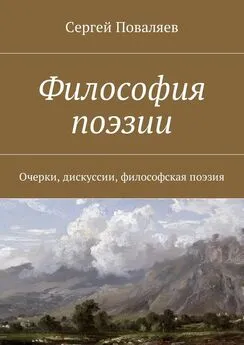Древнеанглийская поэзия
- Название:Древнеанглийская поэзия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Древнеанглийская поэзия краткое содержание
Древнеанглийская поэзия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Подобным же образом и старость Беовульфа — это не годы и даже не связанная с годами немощь (нигде не сказано, чтобы в последней схватке с драконом герою изменили силы), а прежде всего близость к смерти: «он сердцем предчуял (соседство смерти), Судьбы грядущей» (ст. 2418–2419). В древнеанглийском языке есть особое слово fǽge, которое имеет значение «близкий к смерти, обреченный»; вся последняя часть поэмы ведет читателя к этому концу.
Трагическое мироощущение, как много раз отмечалось в литературе, вообще в высшей степени присуще германскому эпосу, где гибель героя, а не его победа становится наивысшей точкой в повествовании. Но как бы эта гибель ни потрясала воображение аудитории, она призвана служить в эпосе утверждению героических идеалов. Сквозь трагизм здесь всегда просвечивает торжество. Можно было бы привести в связи с этим слова Дж. Смизерса: «Мы проникаемся сочувствием к герою, и факт его смерти для нас горестен, но для самого героя, равно как и для поэта, все кончается, как должно» [291]. Автор однако, относит эти слова не к Гуннару или Сёрли, героям скандинавских эпических песней, а к Беовульфу, и здесь трудно с ним согласиться, гибель Беовульфа может вызвать только чувство безысходности, и тут больше подошли бы слова, сказанные о древнеанглийской поэзии Ч. Кеннеди: «Человек здесь делает то, что он может и что он должен, но то, что он может, оказывается недостаточным, а то, что он должен, ведет к крушению» [292]. Смерть Беовульфа предвещает крушение гаутского племени:
В былое канули
с конунгом вместе
пиры и радости,
морозным утром,
в руках сжимая
копейные древки,
повстанут ратники.
Но их разбудит
не арфа в чертоге,
а черный ворон,
орел выхваляющийся
обильной трапезой.
(ст. 3020–3025)
Здесь отличия от скандинавского героического эпоса, впрочем, не столь еще заметны. Отождествление героя со своим племенем обычно в героических песнях, и приведенный отрывок напоминает, например, ту строфу из эддической «Песни об Атли», где Гуннар, предчувствуя свою скорую смерть, говорит о волках и медведях, которые будут хозяйничать в его владениях [293].
Тема крушения становится, однако, всеохватной в поэме. Смерть Беовульфа сливается в ней с изображением гибели всего героического мира. Плакальщица поет над его телом «о том, что страшное // время близится —/ смерть, грабежи // и битвы бесславные» (3153–3155). Это страшное время показывается вместе с тем в поэме не только как будущее, но и как то, что уже свершилось или постоянно свершается. Ко второй части поэмы относятся все ее элегические фрагменты, варьирующие мотивы, уже знакомые нам по «Скитальцу» или «Морестраннику». Сходство с элегиями усугубляется решающими изменениями, которые происходят в самой композиции поэмы: по мере приближения к концу повествование утрачивает в ней связность, постоянно перебивается какими-то отрывочными рассказами о распрях, братоубийствах и гибели целых народов. Все торопит время к тому рубежу, когда превратятся в развалины города и крепости и скитальцы будут скорбеть о своем прошлом.
Здесь, в этом изображении прошлого, состоит основная трудность исследования «Беовульфа», источник постоянно возобновляемых споров о его жанровой сущности, о тех идеях и идеалах, которые в нем выражаются. «Беовульф» — это героический эпос, но такой, в котором прошлое уже не имеет присущей эпосу абсолютной завершенности и замкнутости [294]. Оно оказывается доступным для оценки с новой, не вытекающей из него самого и определяющей лирическую тональность поэмы точки зрения и ищет себе продолжения в настоящем.
Другая нить связывает элегии с христианской поэмой о грехопадении первых людей. «Грехопадение» (в научной литературе эта переведенная с древнесаксонского языка поэма известна как Genesis В, см. примечания), относят к раннему пласту христианского эпоса. Ветхозаветные сказания здесь явственно «германизируются», т. е. осмысляются, как того требует формульно-тематическая структура героической поэзии. Отношения между Сатаной и Богом уподобляются отношениям между поправшим обеты верности дружинником и по справедливости карающим его господином. Все это в значительной степени определяет и оценку поступков Сатаны, и саму фразеологию поэмы (см. прим.). Но трактуя «Грехопадение» только как пересказ христианского сказания германским поэтом, т. е. как результат применения традиции к чужому ей материалу, нельзя еще объяснить ее замечательных достоинств. Здесь важно опять-таки вникнуть в оборотную сторону отношений между традицией и материалом, понять, как эволюционирует под давлением этой необходимости — изобразить новые для германской поэзии предметы — сама поэтика.
«Нам нечасто доводится слышать, чтобы господин был предан или убит своим приближенным, но на долю христианского поэта выпали разработка этой необычной ситуации (вассал открыто бунтует против своего прежнего господина) и изображение Сатаны, героически восставшего против господина из самых глубин преисподней» [295]. Здесь подмечено самое важное. Справедливо, что отношения между Сатаной и Богом введены в ткань героического мира; но для понимания места «Грехопадения» в англосаксонской поэзии еще более существенно, что здесь, как и в элегиях, на авансцену впервые выдвинут персонаж, которому героический эпос отводит место на периферии (ср. выше, §g). В первой части поэмы поверженный Сатана имеет немалое сходство с изгнанником, каким его изображает элегия. Бездна гееннская, его окружающая, — это еще один вариант образа хаоса. В описании ее особенно подчеркиваются буйство стихий, превосходящее все мыслимое на земле:
там с вечера мученья
вечно длятся,
негаснущий огонь
врагов опаляет,
там на рассвете
ветер восточный,
стужа лютая,
хлад и пламень…
Заметим, что рай, описание которого развернуто в переводе из «Феникса» (см. в нашем сборнике, с. 90–95), рисуется прежде всего как место умиротворения природы, во всем противоположное аду и посюстороннему хаосу, окружающему элегического героя:
Вот под небосводом
сокровенная равнина,
лес зеленый:
ни снега, ни ливни,
ни дыханье стужи,
ни летучее пламя,
ни градопады пагубные,
ни доспехи ледяные…
ее не тревожат.
Подобному элегическому герою Сатана вмещает всю силу духа в слово, и местами его монолог живо напоминает сетования изгнанника. Но слово элегического героя, оставшегося один на один со своими бедствиями, обращено на него самого, это слово лирическое. Напротив, речи Сатаны представляют собой поразительный по своей патетике призыв к действию. Переходящий от жалоб к посулам, поворачивающий мысль всеми ее сторонами, все выше возносящийся в своих дерзких мечтаниях, он, Сатана, мог бы быть назван первым в истории английской литературы оратором. Противоположность физического бессилия («но опутали меня / путы железные, // оковали оковы, / и покинула сила…») и всесильности слова разрешается в «Грехопадении» неожиданным, но единственно возможным, в рамках данной тематической структуры, образом. Сатана как бы раздваивается, одновременно и остается в геенне и дает начало некоему новому «диаволу-искусителю», который, не зная препятствий, облачается в военные доспехи и воспаряет в небо. Неизвестно, как возник на сцене этот приспешник Сатаны (обозначаемый обычно в литературе как subordinate devil): текст в рукописи в этом месте испорчен. Но как бы ни обставлялось поэтом его появление, он изображается во всех дальнейших сценах совершенно в тех же выражениях, что и Сатана, первый и наиглавнейший противник Бога. Собственно он и является воплощением всесильного сатанинского слова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: