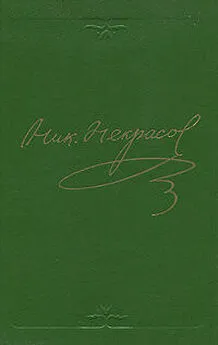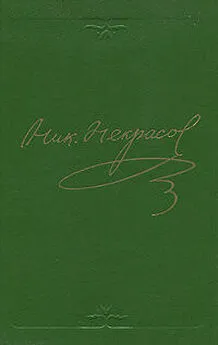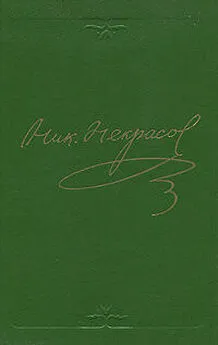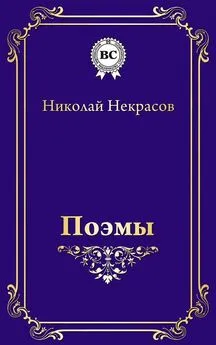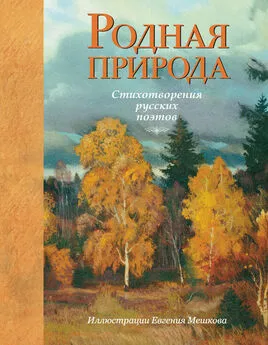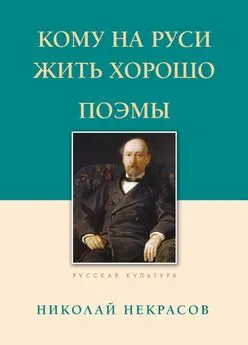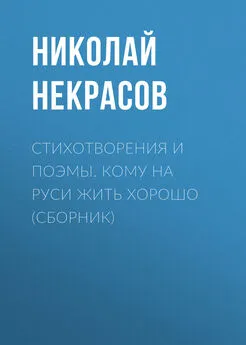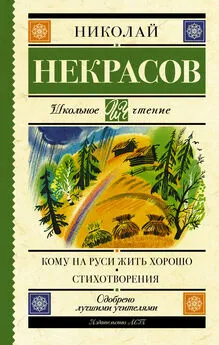Николай Некрасов - Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы
- Название:Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1971
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Некрасов - Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы краткое содержание
В конце тома помещена поэма «Кому на Руси жить хорошо» — произведение, над которым поэт, по многочисленным свидетельствам его друзей, работал до самых последних дней жизни и которое, по существу, является его поэтическим завещанием.
Вступительная статья к тому принадлежит перу выдающегося советского поэта, писателя и ученого Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969), многие годы посвятившего изучению и пропаганде некрасовского наследия.
Том составлен А. М. Гаркави.
Примечания Корнея Чуковского при участии А. Гаркави.
Иллюстрации В. Домогацкого.
Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Княгиню М. Н. Волконскую» Некрасов писал в Карабихе летом 1872 года. 10 июля он сообщал своему другу А. Н. Кракову: «… Я затеял большую работу — и усердно писал; теперь начинаю видеть берег, думаю, что недели в две кончу: вещь будет, кажется, недурная. Сюжет вертится все там же — около Сибири.» Он кончил поэму раньше, чем предполагал, на что указывают даты в рукописи: «17 июля 1872», «21 июля».
Двадцать девятого марта 1873 года Некрасов писал П. В. Анненкову, что, если бы не «цензурное пугало, повелевающее касаться предмета только сторонкой», он работал бы и дальше над этой темой. И действительно, в том же году он набросал подробный план новой задуманной им поэмы о декабристках. Согласно этому плану, главы о Трубецкой и Волконской должны были занять в поэме скромное место пролога; все десять глав дальнейшего повествования должны были изобразить жизнь этих самоотверженных женщин в Сибири, причем в качестве главной героини поэмы Некрасовым намечалась Александра Григорьевна Муравьева, умершая в Петровской тюрьме после нескольких лет жизни в Сибири (см. Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. III. М. 1949, стр. 398–399). Очевидно, Некрасов долго не оставлял мысли создать цикл поэм о страдальческой жизни декабристов в Сибири, потому что и через три года после окончания «Русских женщин» обращался к декабристу М. А. Назимову с просьбой доставить ему сведения о коменданте Лепарском («Архив села Карабихи», М. 1916, стр. 165). Но «цензурное пугало» помешало осуществить эти замыслы.
Из-за того же «цензурного пугала» Некрасову пришлось сильно исказить текст «Русских женщин» при публикации.
Особенно пострадала «Княгиня Трубецкая». Напечатать ее полностью было тогда немыслимо, потому что в ней с чрезвычайною резкостью сказалась ненависть к самодержавному строю, к Николаю I и к его приближенным. Закончив «Трубецкую», Некрасов тотчас же начал «смягчать» ее, выбрасывая «дерзкие» строки, которых оказалось очень много.
«Думаю, что в том испакощенном виде <���…> цензура к ней придраться не могла бы», — писал он Краевскому в марте 1872 года. Действительно, «Трубецкая» была очень «испакощена».
Некоторые приспособленные к цензуре стихи вызывали у читателей мысли, прямо противоположные тем, какие были в доцензурном тексте: например, в рукописи у Некрасова было сказано о декабристах:
Стояли они настороже,
Готовя войска к низверженью властей, —
а напечатано было:
Стояли они настороже.
Готовя несчастье отчизне своей.
Помимо текстовых искажений Некрасов применил и другие средства, чтобы провести «Русских женщин» через цензуру. Так, «Княгиню Трубецкую» он в журнальной публикации снабдил особым примечанием с целью доказать, будто поэма вполне «цензурна». Примечание гласило:
«С издания манифеста Александра II, от 26 августа 1856 года, в нашей литературе начали появляться время от времени (а в последние годы и довольно часто) материалы для изучения эпохи, к которой относится настоящий рассказ. Перечитывая эти материалы, автор постоянно с любовию останавливался на роли, выпавшей тогда на долю женщин и выполненной ими с изумительной твердостью. Если на самое событие можно смотреть с разных точек зрения, то нельзя не согласиться, что самоотвержение, выказанное ими, останется навсегда свидетельством великих душевных сил, присущих русской женщине, и есть прямое достояние поэзии.
Вот причина, побудившая автора приняться за труд, часть которого представляется теперь публике. Хотя минуло уже почти полвека со времени события, однако автор счел за лучшее вовсе не касаться его политической стороны, — да это и не входило в пределы задачи, как увидит читатель. Точки вместо некоторых строф поставлены самим автором, по его личным соображениям. Авт<���ор>» («Отечественные записки», 1872, № 4, стр. 577).
Одним из заслонов от «цензурного пугала» должен был служить и «Эпилог», который Некрасов написал для «Трубецкой», готовя ее к печати. Здесь он указывал, что сюжет его поэмы не зависит от положительной или отрицательной оценки восстания («как ни смотри на драму тех времен»), что не декабристы интересуют его, а только их самоотверженные жены и что, стало быть, поэма далека от политики. Ввиду того что вскоре после этого он, как указано выше, изложил те же ложные доводы в особом примечании к поэме, надобность в этих строках «Эпилога» отпала. Дальнейшие строки тоже оказались излишними: в них поэт уведомляет читателя, что Трубецкая не является единственной героиней поэмы:
Быть может, мы, рассказ свой продолжая,
Когда-нибудь коснемся и других.
Надобность в этом предуведомлении исчезла, едва только появилась «Волконская». Нельзя было говорить «быть может» и «когда-нибудь» о том, что уже осуществилось на деле.
Дальше в «Эпилоге» было сказано, будто подвиг Трубецкой выше подвига остальных декабристок:
Но чьей судьбы теперь коснулись мы,
Та всех светлей сиять меж ними будет…
И эти строки тоже не могли сохраниться в окончательном тексте после того, как Некрасову стали более ясны образы других «русских женщин»: через год (в вышеупомянутом плане цикла поэм) он уже называл «самым лучшим перлом» из всех декабристок А. Г. Муравьеву.
Таковы те причины, по которым, как мы полагаем, «Эпилог» был изъят Некрасовым из текста «Трубецкой» и вообще не был напечатан при жизни поэта.
Главным образом для того, чтобы отвлечь внимание цензурного ведомства от тех страниц, где трактуется декабристская тема, написаны, по-видимому, и пространные примечания к «Княгине М. Н. Волконской», посвященные подвигам генерала Раевского, характеристике Зинаиды Волконской и пребыванию Пушкина в Гурзуфе.
И все же, несмотря на все вынужденные уступки цензуре, подлинный смысл поэмы был понят многими читателями. Революционно настроенная молодежь встретила «Русских женщин» восторженно.
В феврале 1873 года, через месяц после того, как «Княгиня М. Н. Волконская» появилась в печати, Некрасов писал своему брату Федору Алексеевичу: «Моя поэма «Кн. Волконская», которую я написал летом в Карабихе, имеет такой успех, какого не имело ни одно из моих прежних писаний. <���…> Литературные шавки меня щиплют, а публика читает и раскупает».
«Литературными шавками», «щипавшими» поэта, были реакционные критики В. П. Буренин и В. Г. Авсеенко («Санкт-Петербургские ведомости», 1873, № 27, «Русский мир», 1873, № 46).
Об огромном успехе «Русских женщин» свидетельствует вся современная Некрасову пресса. Например, А. М. Скабичевский несколько позднее писал: «…Я никак не могу припомнить ни одного художественного произведения, вышедшего в последние десять лет в нашей печати, которое произвело бы на публику такое сильное и цельное впечатление…» («Отечественные записки», 1877, № 3, стр. 9).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: