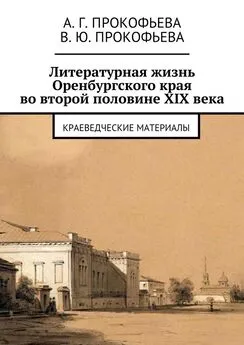Юрий Орлицкий - Русские поэты второй половины XIX века
- Название:Русские поэты второй половины XIX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-17-034736-7, 5-271-14519-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Орлицкий - Русские поэты второй половины XIX века краткое содержание
Русские поэты второй половины XIX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
8. Я ждал тебя…, с. 144.
9. В уютном уголке…, с. 188.
10. О, будь моей звездой…, с. 159.
МФ № 3
2-й ведущий. «Содержанием своих стихотворений Апухтин стоит совершенно в стороне от той небольшой фаланги молодых поэтов (Надсон, Минский, Мережковский и др.), которая выступила на литературную арену в конце 70-х и начале 80-х годов. Это поэт любви, – не пылкой, сильной и могучей, но меланхолически скорбной, романтически разочарованной, аристократически сдержанной. Как поэт любви, Апухтин проще, искреннее и задушевнее многих других поэтов современности, у которых мысль сдавливает и без того несколько туманное, сбивчивое и неглубокое чувство» (из статьи А. Волынского «Поэт любви», 1891).
11. Истомил меня жизни безрадостный сон…, с. 176.
12. О, не сердись на то…, с. 249.
13. Когда так радостно…, с. 116.
14. О да, поверил я…, с. 230.
15. Мне не жаль, что тобою я не был любим…, с. 213.
16. Ни отзыва…, с. 144.
МФ № 4
1-й ведущий. «Любовь, которую изображает постоянно Апухтин, любовь более или менее изнеженного человека, любовь артиста, то неглубокое, пожирающее чувство, но чувство дилетантски аристократическое, меланхолически сладострастное, капризное, в себе сосредоточенное. Проносятся смутные очертания безумных, бессонных ночей – непременно безумных, непременно бессонных. Нет бунтующих, глубоко человеческих порывов: болезненная чувствительность, тончайший яд сомнений, мучительно ревнивое внимание к мельчайшим ощущениям и в себе, и в других – это и есть аристократически дилетантская любовь, с цыганскими песнями у Яра, с замороженным шампанским, загородными пикниками. В этой любви есть искусство, но нет захватывающей стихии цельности, покоряющего и покоренного чувства» (из статьи А. Волынского).
17. Любовь, с. 177.
18. Мухи, с. 180.
19. Опять пишу тебе…, с. 256.
20. Я ее победил…, с. 214.
21. Давно уж нет любви…, с. 136.
22. Когда, в объятиях…, с. 260.
МФ № 5
2-й ведущий. «Господствующая черта творчества поэта – глубокий индифферентизм, полное отсутствие окраски не только в смысле партийных убеждений (что не играло бы особой роли в деле политического творчества), но и в отношении коренных, религиозно-философских воззрений.
Бесцветная, безрадостная поэзия Апухтина существует в русской литературе наряду с наиболее яркими проявлениями иных настроений и требует нашего внимания не менее всякой другой. Ее индифферентизм, ее отсутствие положительного символа веры есть, конечно, лишь форма миропонимания, догматика самостоятельной секты. Как всякий истинный поэт, Апухтин представляет неповторимое явление, своего рода уникум.
Программа жизни по Апухтину – безнадежно-пессимистическое миросозерцание пришельца, не нашедшего себе места в жизненной работе. Его угнетало не только отсутствие веры, но отсутствие безверия, то есть того или иного определенного миросозерцания. Внутренний недуг Апухтина – унылое, безразличное состояние духа, подрезающее его крылья, пригнетающее человека к земле.
К этой «оброшенности», говоря выражением Салтыкова, Апухтин должен был уйти с головой в мир личных ощущений и тревог, их повышенной интенсивностью выкупая недостаток других впечатлений, причем преимущественное внимание поэта было посвящено, конечно, «страсти нежной» (из книги Петра Перцова «Философские течения русской поэзии», 1899).
23. Над связкой писем, с. 204.
24. Письмо, с. 223.
25. Ответ на письмо, с. 240.
26. С курьерским поездом, с. 268 (2 чтеца).
МФ № 6
1-й ведущий. «Не мог ужиться Апухтин, по признаниям его, с новыми направлениями русской литературы. Много говорил я и спорил с ним, бывало, на эту жгучую для нас обоих, интересную тему.
Алексей Николаевич открыто возмущался Достоевским с его «ватагой психопатов», «грубой и хлесткой, как пощечина, сатирой Щедрина», некрасовским опоэтизированием мужицкого быта «до вшей включительно». В один прекрасный день Апухтин вдруг почувствовал себя вдруг, с его точки зрения, довольно-таки в пестром, странном и главное – опасном, в смысле соблюдения приличий, обществе: за крупными фигурами во весь рост Щедрина, Достоевского, Некрасова – талантов которых он не отрицал – усмотрел он, по его признанию, «победоносное шествие с развернутыми знаменами, легиона бесталанных подражателей, литературных альфонсов, литературных шарманщиков, продажных, как женщины известного сорта»… Открыв глаза, испуганно оглянувшись вокруг себя, подобно соловью, беззаботную песенку которого вдруг грубо, резко оборвали на полуноте, он умолкнул, скрылся, поспешил дать дорогу другим…» (из мемуаров А. Жиркевича).
27. Ночь в Монплезире, с. 147.
28. Моленье о чаше, с. 145.
МФ № 7
29. Сумасшедший, с. 249 (два чтеца).
МФ № 8
2-й ведущий. «Нравственно-литературный тип, к которому принадлежал Апухтин, совсем не новый и уже достаточно разъясненный тип. Это тип добродушных людей, остроумных собеседников и тонких эстетиков, очень вероятно, приятных для небольших кружков личных знакомых и друзей и совершенно бесполезных для общества. При условии материальной обеспеченности, освобождающей от „малых трудов“, люди этого типа могут быть счастливы при какой угодно исторической обстановке. К людям они равнодушны: они неравнодушны только к самим себе. Всякие великие идеи, всякие высокие лозунги и слова, всегда им хорошо известные, для них не более как довольно обильный источник приятных эстетических эмоций или даже просто подходящий материал для красноречивого собеседования. Все, к чему прикасаются эти люди, будет ли то наука, или искусство, или философия – все это из насущного дела превращается у них в усладительное времяпрепровождение. Это природные сибариты и эпикурейцы… они замыкаются в себе, то есть собственно у себя, в четырех стенах своего комфортабельного кабинета, почитывают, пописывают, порисовывают, поигрывают и, дожив до срока, умирают или от несварения в желудке, или от ожирения. В мире теней их родственным радушием приветствует тень Ильи Ильича Обломова» (из статьи М. Протопопова «Писатель-дилетант», 1896).
30. Пьяные гусары, с. 264.
31. И странно и дико…, с. 265.
32. Желания славянина, с. 265.
33. По поводу юбилея Петра Первого, с. 290.
34. Когда будете, дети…, с. 283.
МФ № 9
1-й ведущий. «Из того факта, что Апухтин не заботился о печатании своих стихотворений, небрежно относился даже к записыванию их, было бы неверно заключить, что он не дорожил ими потому, что они достались ему легко, что он, как Тютчев, по выражению Ивана Аксакова, „ронял“ стихи, не заботясь о том, подберут их или нет.
Даже произведения, получившие его санкцию к обнародованию, туго и неохотно распространялись им иначе как в его собственной декламации среди интимного кружка приятелей. Он не только не навязывал своих стихов печати, но самым горячим поклонникам музы лишь позволял (и далеко не всегда) их переписывать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
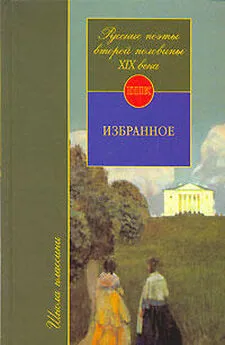





![Федор Достоевский - Призраки [Русская фантастическая проза второй половины XIX века]](/books/1071339/fedor-dostoevskij-prizraki-russkaya-fantasticheskaya.webp)