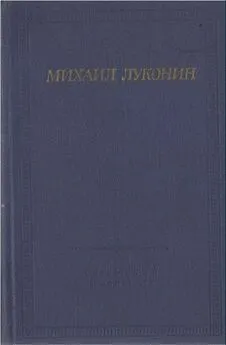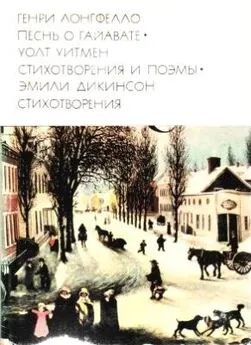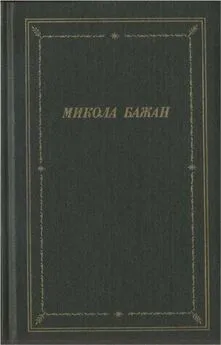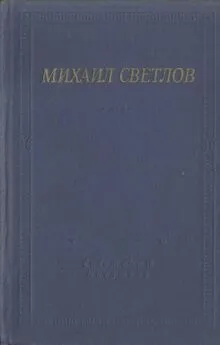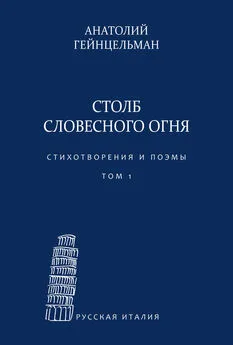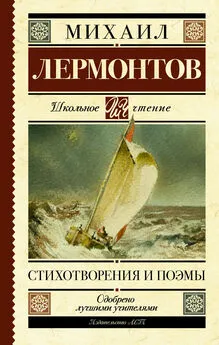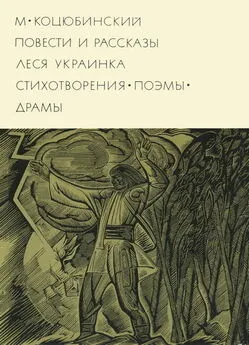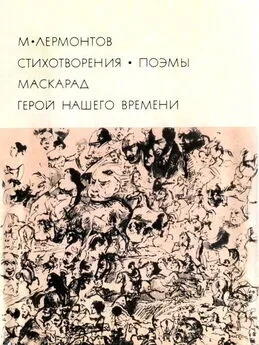Михаил Луконин - Стихотворения и поэмы
- Название:Стихотворения и поэмы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Луконин - Стихотворения и поэмы краткое содержание
М. К. Луконин (1918–1976) — известный советский поэт, чья биография и творческий путь неотделимы от судьбы фронтового поколения. Героика Великой Отечественной войны, подвиг народа в годы восстановления народного хозяйства — ключевые темы его стихов.
Настоящий сборник, достаточно широко представляющий как лирику Луконина, так и его поэмы, — первое научно подготовленное издание произведений поэта.
В книге два раздела: «Стихотворения» и «Поэмы». Первый объединяет избранную лирику Луконина из лучших его сборников («Сердцебиенье», «Дни свиданий», «Стихи дальнего следования», «Испытание на разрыв», «Преодоление», «Необходимость»), Во второй раздел включены монументальные эпические произведения поэта «Дорога к миру», «Признание в любви», а также «Поэма встреч» и главы из поэмы «Рабочий день».
Стихотворения и поэмы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот у Гудзенко ведут колонну пленных немцев, — и что же? Стена! Кровавый штык видением встает. И нет сил жалеть их, и смотреть на них, и — быстрее мимо… «Нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели» — сказано в «Моем поколении». Это — Гудзенко.
Луконин-то как раз может пожалеть. В нем много естественных живых сил, и потому он отходчив. К пленному немцу — если он близко, если видно лицо — возникает у Луконина даже какое-то задорное любопытство. «В Ельце» — пляшет пленный. «Пляшет и пляшет, заискивая глазами..» Подлизывается? Луконинская реакция напоминает стычку мальчишек на улице: «А зачем стрелял в меня на улице Коминтерна?»
Простодушие, скрывающее страшную правду. «Улица Коминтерна»… 1941 год. Еще тают в воздухе последние иллюзии, будто немецкие рабочие не станут стрелять в красноармейцев… Стреляют! Стреляют на улице Коминтерна!.. Рушится романтическая мечта о близкой всемирной, «земшарной» мировой справедливости: реальность свинцом проходит сквозь романтический мир. Надо искать силы, чтобы духовно устоять в этой переменившейся реальности.
В лирике Гудзенко эта перемена переживается как катастрофа. Он не говорит об этом впрямую, но сквозной мотив «подмененной реальности» горечью разлит в стихах. Характерен для Гудзенко образный ход: он окликает реальность, а она отвечает ему… незнакомым голосом. Встречаются двое на перекрестке войны. Он солдат, она солдатка. В порыве торопливой ласки она называет его именем своего мужа, он ее — именем своей любимой. Любовь продолжается под псевдонимами, горько, вывернуто.
Вдумайтесь в этот же мотив у Луконина, в «Прощании»:
Меня совсем из сердца излучила?
Теперь уже не мучает вина?
Ты хорошо другого изучила? —
Смотри
не перепутай имена.
Этот не примет сон за реальность.
Контраст двух поэтических характеров с особенной яркостью виден в отношении к смерти. Оба из «поколения меченых», оба своими глазами видят, как умирают. И силы собирают, чтобы выдержать. Но и тут — по-разному.
Гудзенко — готовится. «Мы не от старости умрем — от старых ран умрем». Самый ход стиха, самый тип переживания говорит о том, как вглядывается Гудзенко в сожженные тела однополчан. Как у него живые глаза «выедает» голубизна неба. Словно жизнь — невероятное чудо, готовое вот-вот оборваться, и надо удержать ее, сколько хватит сил «Так раненые кровь хранят, руками сжав культяпки ног» («Баллада о дружбе»), — страшный образ, возможный, пожалуй, только у Гудзенко и совершенно немыслимый у Луконина.
Ракурс у Луконина — противоположный. Для него смерть — абсурд: «Саша, как ты упал небывало..» («Саше Щукину»), Луконин словно каждый раз ахает, изумляясь смерти, словно не верит в нее. Словно умирают не насовсем. Словно что-то живое все равно остается в пробитых, простреленных телах. Как теплится живое и в траве, и в камнях — во всем! Бегущие деревья. Упавшие на лапы трамваи. Колени водосточных труб. Грудь паровоза. Глаза домов. Спины рельсов. У Луконина такое всепронизывающее ощущение обжитого мироздания, при котором чувство миропорядка сохраняется даже в катастрофе. «И пулемет, как плуг, держать…» И «самолет стрижет комбайном…» Всякая деталь напоминает о неистребимом порядке целого. Даже если деталь сорвана с места. Даже если все перевернулось. Луконин отвергает перевернутую логику. В перевернутом мире соотношение вещей упрямо сохраняется. В фойе театра — бой; один каменный лев падает, другой — заслоняет собой дверь. И тот и другой восприняты как живые; в их гибели нет безумия, скорее это естественное самопожертвование сильного существа. Фантастическая картина, когда герои гибнут на сцене от настоящих пуль, картина, которая иного поэта толкнула бы на апокалипсические чувства, у Луконина окрашена ощущением жестокого, но правильного, закономерного, неотступного порядка:
К суфлерской будке
старшина
припал
и бил во тьму.
И
история сама
суфлировала ему.
(«Сталинградский театр»)
Космос в хаосе. Разбитый театр — все театр. Истерзанная земля все земля. Разрушенный дом — все дом!
Для Гудзенко «дом» — призрачность. У него все навылет, он «Двери отворяет штыком» («Киев»), Чувство дома отсутствует, а если оно возникает, то как знак обмана: снаружи дом как дом, есть стены, окна, двери, а внутри — ни души: все брошено, выжжено: «Нам здесь не жить»… Герой Гудзенко — не «житель».
Луконинский герой — именно житель, и прежде всего житель, Упрямый и цепкий. Отсюда в его стихах прорастающие зеленью развалины. И гнезда воробьев в пулеметных гнездах. Природа — это дом. Руины — дом. Чистое поле — дом: «облака развешаны, как плакаты». «Куда я ни пойду — везде мой дом» («Мой дом»).
Это не тема (хотя в циклах о восстановлении Сталинграда будет и такая тема), это мировидение, которое определяет стих и там, где описывается нечто далекое от строительства. Например, осень: «Скоро и лужи, и небо, и окна — всё застеклится!» Например, танк: «Стальной холодный дом». Например, бой, который все распластывает, пригибает к земле… Нет, вы почувствуйте, как это увидено, это ж, наверное, никто в русской лирике, кроме Луконина, не мог бы так сказать:
Налезли муравьи
в мой маленький окопчик,
а я траву высокую
поставил над головой,
чтобы меня среди травы
не разглядел летчик,
и так —
с травой —
понятней,
когда начнется бой.
(«Машинист»)
Живучая сила, которая в самой, казалось бы, безнадежной ситуации поднимает и гонит человека с муравьиным упорством наращивать жилье и жизнь, дом и космос.
Эта-то живучесть духа и делает Луконина своеобразным лидером поколения, или, если употреблять близкий этому поколению военный язык, его правофланговым. До середины пятидесятых годов и эта роль, и сами стихи Луконина воспринимаются скорее в проблемно-тематическом, чем в эмоциональном и философском плане. Это поэзия солдат, пересевших с танков на трактора, поэзия восстановления и созидания. Это стихи мастера, умело перешедшего на «темы мирного труда» и давшего перевооружавшейся лирике летящие формулы, давшего лозунг «Пришедшим с войны»:
Нам не речи хвалебные,
нам не лавры нужны,
не цветы под ногами,
нам, пришедшим с войны.
Но не чувствуется ли в самом основании этого светлого аккорда какая-то скребущая нота?
Ты прости меня, милая.
Ты мне жить помоги.
«Приду к тебе» — классика: жадность к жизни, к труду, к любой. Это зримый уровень. Есть еще незримая драма в этом стихотворении, что-то остро беспокоящее:
Будешь к завтраку накрывать,
а я усядусь в углу.
Начнешь,
как прежде,
стелить кровать,
а я
усну
на полу.
Потом покоя тебя лишу,
вырою щель у ворот,
ночью,
вздрогнув,
тебя спрошу:
«Стой! Кто идет?!»
Интервал:
Закладка: