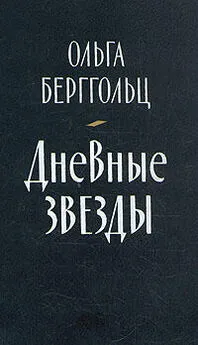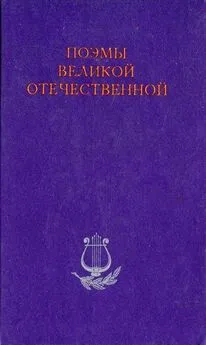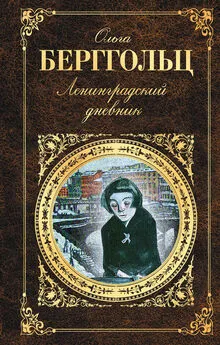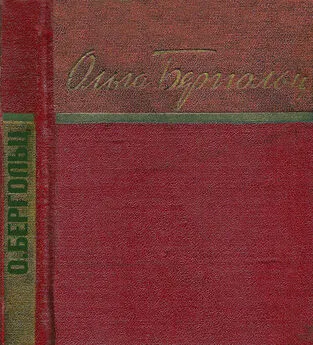Ольга Берггольц - Ольга. Запретный дневник
- Название:Ольга. Запретный дневник
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Азбука-Аттикус
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-01614-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Берггольц - Ольга. Запретный дневник краткое содержание
Ольгу Берггольц называли «ленинградской Мадонной», она была «голосом Города» почти все девятьсот блокадных дней. «В истории Ленинградской эпопеи она стала символом, воплощением героизма блокадной трагедии. Ее чтили, как чтут блаженных, святых» (Д. Гранин). По дневникам, прозе и стихам О. Берггольц, проследив перипетии судьбы поэта, можно понять, что происходило с нашей страной в довоенные, военные и послевоенные годы.
Берггольц — поэт огромной лирической и гражданской силы. Своей судьбой она дает невероятный пример патриотизма — понятия, так дискредитированного в наше время.
К столетию поэта издательство «Азбука» подготовило книгу «Ольга. Запретный дневник», в которую вошли ошеломляющей откровенности и силы дневники 1939–1949 годов, письма, отрывки из второй, так и не дописанной части книги «Дневные звезды», избранные стихотворения и поэмы, а также впервые представлены материалы следственного дела О. Берггольц (1938–1939), которое считалось утерянным и стало доступно лишь осенью 2009 года. Публикуемые материалы сопровождены комментарием.
В книгу включены малоизвестные и ранее не известные фотографии и документы из Российского государственного архива литературы и искусства, из Пушкинского Дома (ИРЛИ РАН), Российской национальной библиотеки, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, из Музея Дома Радио. Также публикуются письма к отцу, предоставленные для этого издания Рукописным отделом Пушкинского Дома. Впервые читатели увидят верстку книги «Узел» с авторской и цензурной правкой (архив Н. Банк в РНБ). Впервые в этом издании представлены фотографии уникальных вещей, хранящихся в семье наследников. В книгу включены также воспоминания об О. Берггольц.
Ольга. Запретный дневник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда я приехала, я пришла в отдельную комнату на 7 этаже, светлую, очень теплую, даже с мягкой мебелишкой («на этом диване ты сидела в 50 хронике»), со столом, где ящики набиты пищей и медовым, прекрасным табаком. У диванчика над столом — мой портрет, мой снимок, мои стихи. Он приготовил для меня отдельный угол, человеческое светлое жилье, — правда, среди пробитых крыш и разрушенных домов. Как непохожа эта комната на зимний кошмар — на комнату Молчановых, Пренделей, Мариных [128] Марин В. А. (1909–1970) — муж М. В. Машковой, зам. директора по хозяйственной части Публичной библиотеки. В годы блокады много сделал для спасения фондов и каталогов от гибели.
.
3/V-42
Я почти ничего не пишу здесь — не хочу, чтоб Юрка заметил, что я веду дневник. Это только моя жизнь — нелепо и уродливо посвящать его в нее. Вчерашняя телеграмма от Маргариты Довлатовой и так опечалила и встревожила его, — это был ее ответ на мое московское письмо о смерти Коли. Пусть он радуется со мною и мне. Я не жалею и не буду жалеть на него ни ласки, ни приветливости, ни любви. Пусть он будет счастливым! В первые дни возвращения, когда еще особая обида на него за Колю (как будто бы он в чем-то виноват!) держала меня и я скупилась на приветливость и заводила разговоры, чтоб сказать ему: «Я все же любила Николая больше тебя», — вдруг меня озарила мысль: «А может быть, мне еще придется видеть его в нарывах и язвах, умирающего от газов». Бог знает, сколько еще муки придется выдержать и ему и мне. Нет, нельзя жалеть ни любви, ни ласки, и она исходит уже свободно из души, почти не удерживаемая мощной, угрюмой и больной памятью о Николае…
4/V-42
Вчера до 5 ч. утра — тягчайший разговор с Юрой о прошлом. Он старается уверить меня, будто бы с сентября я уже не любила Николая. Будто бы и сейчас не люблю его, а все выдумываю. Какая ерунда!
8/V-42–9/V-42
Все никак не остаться одной, чтобы писать здесь и работать для себя.
За время приезда в Ленинград была два раза на фронте. В 42-й армии — это за «Электросилой», около Дворца Советов, и в 55-й, в Рыбацком и Усть-Ижоре [129] См. документы из Музея Дома Радио на первой вклейке.
. Как странно, пронзительно-печально, удивительно идти по знакомейшим местам, где было детство, юность, а теперь — фронт. Ощущение единства жизни, горючего, бесплодного, содержательного, грустного не покидало меня, и очень отчетливо чувствовалась поступь жизни. Сколько я прожила, можно уж целую книгу писать… Уже прожита одна, целая человеческая жизнь; в городе нет отца, нет Коли. Нет его родных, умерли мои тетки, давно умерли мои дети. Этого ничего нет. Нет. И невозвратимы — юность, мужание — и все прошлое. Началась, независимо от моей воли, и идет уже совсем-совсем другая жизнь, и я сама — та — тоже как бы умерла.
Со стеклянным звуком ложатся где-то снаряды, вчера и сегодня летели через крышу, отвратительно стеная и воя. О, печаль, печаль!
Я в Ленинграде уже 20 дней. Почти не работала, — только написала одно стихотворение «Ленинградцы» — среднее, хотя есть хорошие строчки, и выступления — «Ленинградцы за кольцом» — ничего, его бы прослушали с удовлетворением. «Проходит инстанции» — еще, м. б., и не дадут читать. Пропаганда наша по-прежнему бездарна и труслива, «руководство» тупо и бездарно.
Я живу, главным образом, «медовым месяцем» с Юркой. Три раза выступала с «Февральским дневником» — потрясающий успех, даже смущающий меня. В Союзе — просто ликование. В 42-й и у торпедников — бойцы и моряки плакали, когда читала. Особенно большой фурор — у торпедников, — просто слава. Но мне уже как-то больше неудобно с ним выступать, пора писать что-нибудь новое. Успех — и в Л-де, и в Москве, — ошеломляющий успех «Февральского дневника» смущает меня потому, что теперь следующее надо написать еще лучше, а мне порой кажется, что это был мой потолок. А как я писала ее — в феврале, — тупая, вся опухшая, с неукротимым голодом, — я тогда только что начала есть, Юркино, с остановившимся, окаменевшим от недоумения и горя сердцем… Как долго не могла раскачаться, злилась — Юрка торопил, я чего-то строчила тупо, с неохотой, а потом вдруг, почти непонятно, начала с бедного, простейшего — и стало выходить… Но, конечно, не совсем вышло, я-то знаю, хоть и не говорю.
Надо написать — смутно вырисовывается нечто вроде поэмы — лирически-балладный цикл «Ленинградцы» — о той самой человеческой эстафете.
Много о чем надо написать и записывать. О Мэри Рид [130] Мэри Рид — сестра американского журналиста Джона Рида, автора знаменитой книги «Десять дней, которые потрясли мир». Сотрудник Радиокомитета.
, сестре Джона Рида, умирающей от голода (кое-чем поддерживаем с Юркой, и он старается устроить ее в стационар). О 55-м — вручении гвардейского знамени — бедное торжество на фронте, находящемся в черте города (цикл или стихотворение — «Ленинград — фронт»). О ленинградских детях, романсы и песни. Да, да, надо работать, надо войти в быт города. Я на своей верхотуре, в комнате теплой и светлой и полной еды, — оторвалась от города, от людей, стала эгоистичной и самовлюбленной. Я не считаю стыдом, что упиваюсь сейчас «личной жизнью», но уж хватит, надо что-то делать. Тот восторг, та настоящая человеческая радость, с которой реагируют люди на «Февральский дневник», — ко многому обязывает меня.
Блокаде конца не видно. Пока я тут — немцы дважды атаковали город, но безуспешно. Все уже как-то притерпелись к тому, что фронт начинается на улице Стачек, 100, а за больницей Фореля [131] Больница Фореля — пр. Стачек, 156, как психиатрическая больница существовала до 1941 г.
— немецкая зона! Умирает меньше народа — слишком уж много умерло. Да, умерла Маулишка и Лидия Николаевна. Это очень ударило меня. Какая я скотина, что не позвонила ей в январе… Верно, я ничем не могла бы помочь тогда, — они умерли в те же дни, в те чудовищные январские дни, когда и Коля. О, как больно, как хочется исправить это — прийти на ту квартиру, сказать ей: «Маулишка, да что ты? Ну же, вставай, живи!» Я дружила с ней с 30-го года, и она была верной моей подругой. Ах, боже мой.
Юрка спит и храпит ужасно. Вчера, до 8 ч. утра, — опять страшнейшее объяснение… «Ты пойми, что это вовсе не сцена ревности», — говорил он мне, а это была классическая сцена ревности, и пошлейшая притом, но он так молод сердцем и так рационалистичен, что сам не понимает этого. Были у нас Фадеев, Тишка [132] Тишка — Н. Тихонов.
, Прокофьев [133] Прокофьев А. А. (1900–1971) — поэт. В мае 1945 г. выступил на Пленуме Союза советских писателей с резкой критикой О. Б., заявив, что в ее стихах звучит «исключительно тема страдания, связанного с бесчисленными бедствиями граждан осажденного города». Ошибочно назвав поэму О. Берггольц «Твой путь» «Твоей победой», А. Прокофьев привнес тему, которая была развита недоброжелателями поэтессы (Ленинград. 1945. № 10–11. С. 26).
, — пили, я совершенно невинно повертела хвостом перед Сашкой Прокофьевым — отнюдь не больше того, как обычно с ним — человеком, глубочайшим образом безразличным мне и знакомым свыше 10 лет. То есть более общего, что ли, кокетства, нельзя и придумать. Тем не менее Юра поднял это, плюс звонки одного торпедника — на небывало принципиальную высоту — «ты оскорбляла меня весь вечер, ты разогревала Прокофьева, ты зазывала торпедника, ты показала, что ничуть не дорожишь нашей любовью» — и т. д. Дурачок, дурачок! Он и не подозревает, какая огромная, изумляющая меня самое — его победа то, что я смеюсь с ним целыми днями, как ласкаю его с искреннейшей ненасытностью. Мучительная и любимейшая Колина тень останавливается. Я по-настоящему целыми днями счастлива бываю и обмираю от влюбленности в Юрку, — а он строит какие-то вавилонские башни на трепотне с Сашкой. Знал бы он, как это мне все равно, что это лишь — тоска… Но вчера мне было очень плохо. Сашка упился и стал безобразно грубить и лезть. Юрка наговорил мне несправедливо-обидных вещей — зря, зря. Я с отчаянием почувствовала себя абсолютно одинокой, — ничего подобного не допустил бы Коля, понимая, что всё — ничто по сравнению с любовью к нему, что всё не более, чем ничего не значащее кокетство.
Интервал:
Закладка: