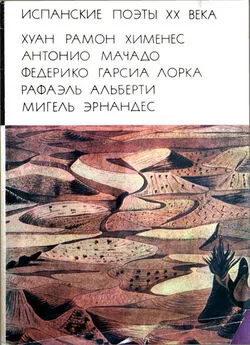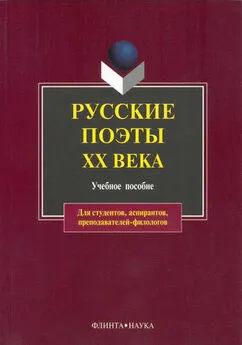Хуан Хименес - Испанские поэты XX века
- Название:Испанские поэты XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1977
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хуан Хименес - Испанские поэты XX века краткое содержание
Испанские поэты XX века:
• Хуан Рамон Хименес,
• Антонио Мачадо,
• Федерико Гарсиа Лорка,
• Рафаэль Альберти,
• Мигель Эрнандес.
Перевод с испанского.
Составление, вступительная статья и примечания И. Тертерян и Л. Осповата.
Примечания к иллюстрациям К. Панас.
* * *Настоящий том вместе с томами «Западноевропейская поэзия XХ века»; «Поэзия социалистических стран Европы»; «И. Бехер»; «Б. Брехт»; «Э. Верхарн. М. Метерлинк» образует в «Библиотеке всемирной литературы» единую антологию зарубежной европейской поэзии XX века.
Испанские поэты XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Одна лишь речная рыбка
иглой золотой сметала
Кордову ласковых плавней
с Кордовой строгих порталов.
Сбрасывают одежды
дети с бесстрастным видом,
тоненькие Мерлины,
ученики Товита {136} 136 Товит — главный персонаж «Книги Товита» (Ветхий завет), праведник, исцеленный от слепоты архангелом Рафаилом.
,
они золотую рыбку
коварным вопросом бесят:
не краше ли цвет муската,
чем пляшущий полумесяц?
Но рыбка их заставляет,
туманя мрамор холодный,
перенимать равновесье
у одинокой колонны,
где сарацинский архангел,
блеснув чешуей доспеха,
когда-то в волнах гортанных
обрел колыбель и эхо…
Одна золотая рыбка
в руках у красавиц Ко́рдов:
Кордовы, зыблемой в водах,
и горней Кордовы гордой.
САН-ГАБРИЭЛЬ
СЕВИЛЬЯ
Высокий и узкобедрый,
стройней тростников лагуны,
идет он, кутая тенью
глаза и грустные губы;
поют горячие вены
серебряною струною,
а кожа в ночи мерцает,
как яблоки под луною.
И туфли мерно роняют
в туманы лунных цветений
два такта грустных и кратких,
как траур облачной тени.
И нет ему в мире равных —
ни пальмы в песках кочевий,
ни короля на троне,
ни в небе звезды вечерней.
Когда над яшмовой грудью
лицо он клонит в моленье,
ночь на равнину выходит,
чтобы упасть на колени.
И недруга ив плакучих,
властители бликов лунных,
архангела Габриэля
в ночи заклинают струны.
— Когда в материнском лоне
зальется дитя слезами,
припомни, что этот бисер
цыгане тебе низали!
Анунсиасьо́н де лос Рейес
за городской стеною
встречает его, одета
лохмотьями и луною.
И с лилией и улыбкой
пред нею в поклоне плавном
предстал Габриэль-архангел,
Хиральды {137} 137 Хиральда — древняя мавританская башня в Севилье, впоследствии надстроенная и превращенная в колокольню католического собора. См. примечание {20} .
прекрасный правнук.
Таинственные цикады
по бисеру замерцали.
А звезды по небосклону
рассыпались бубенцами.
— О Сан-Габриэль, к порогу
меня пригвоздило счастьем!
Сиянье твое жасмином
скользит по моим запястьям.
— С миром, Анунсиасьон,
о смуглое чудо света!
Дитя у тебя родится
прекрасней ночного ветра.
— Ай, свет мой, Габриэлильо!
Ай, Сан-Габриэль пресветлый!
Заткать бы мне твое ложе
гвоздикой и горицветом!
— С миром, Анунсиасьон,
звезда под бедным нарядом!
Найдешь ты в груди сыновней
три раны с родинкой рядом.
— Ай, свет мой, Габриэлильо!
Ай, Сан-Габриэль пресветлый!
Как ноет под левой грудью,
теплом молока согретой!
— С миром, Анунсиасьон,
о мать десяти династий!
Кто встретил твой взор горючий,
его позабыть не властен.
Запело дитя во чреве
у матери изумленной.
Дрожит в голосочке песня
миндалинкою зеленой.
Архангел восходит в небо
ступенями сонных улиц…
А звезды на небосклоне
в бессмертники обернулись.
КАК СХВАТИЛИ АНТОНЬИТО ЭЛЬ КАМБОРЬО НА СЕВИЛЬСКОЙ ДОРОГЕ
Антоньо Торрес Эредья,
Камборьо сын горделивый,
в Севилью смотреть корриду
шагает с веткою ивы.
Смуглее луны зеленой,
шагает, высок и тонок.
Блестят над глазами кольца
его кудрей вороненых.
Лимонов на полдороге
нарезал он в час привала
и долго бросал их в воду,
пока золотой не стала.
И где-то на полдороге,
под тополем на излуке,
ему впятером жандармы
назад заломили руки.
Медленно день уходит
поступью матадора
и плавным плащом заката
обводит моря и долы.
Тревожно чуют оливы
вечерний бег Козерога,
а конный ветер несется
в туман свинцовых отрогов.
Антоньо Торрес Эредья,
Камборьо сын горделивый,
среди пяти треуголок
шагает без ветки ивы…
Антоньо! И это ты?
Да будь ты цыган на деле,
здесь пять бы ручьев багряных,
стекая с ножа, запели!
И ты еще сын Камборьо?
Подкинут ты в колыбели!
Один на один со смертью,
бывало, в горах сходились.
Да вывелись те цыгане!
И пылью ножи покрылись…
Открылся засов тюремный,
едва только девять било.
А пятеро конвоиров
вином подкрепили силы.
Закрылся засов тюремный,
едва только девять било…
А небо в ночи сверкало,
как круп вороной кобылы!
СМЕРТЬ АНТОНЬИТО ЭЛЬ КАМБОРЬО
Замер за Гвадалквивиром
смертью исторгнутый зов.
Взмыл окровавленный голос
в вихре ее голосов.
Рвался он раненым вепрем,
бился у ног на песке,
взмыленным телом дельфина
взвился в последнем броске;
вражеской кровью омыл он
свой кармазинный платок.
Но было ножей четыре,
и выстоять он не мог.
И той порой, когда звезды
ночную воду сверлят,
когда плащи-горицветы
во сне дурманят телят,
древнего голоса смерти
замер последний раскат.
Антоньо Торрес Эредья,
прядь — вороненый виток,
зеленолунная смуглость,
голоса алый цветок!
Кто ж напоил твоею кровью
гвадалквивирский песок?
— Четверо братьев Эредья
мне приходились сродни.
То, что другому прощалось,
мне не простили они —
и туфли цвета коринки,
и то, что кольца носил,
а плоть мою на оливках
с жасмином бог замесил.
— Ай, Антоньито Камборьо,
лишь королеве под стать!
Вспомни Пречистую деву —
время пришло умирать.
— Ай, Федерико Гарсиа,
оповести патрули!
Я, как подрезанный колос,
больше не встану с земли.
Четыре багряных раны —
и профиль как изо льда.
Живая медаль, которой
уже не отлить никогда.
С земли на бархат подушки
его кладет серафим.
И смуглых ангелов руки
зажгли светильник над ним.
И в час, когда четверо братьев
вернулись в город родной,
смертное эхо затихло
гвадалквивирской волной.
ПОГИБШИЙ ИЗ-ЗА ЛЮБВИ
— Что там горит на террасе,
так высоко и багрово?
— Сынок, одиннадцать било,
пора задвинуть засовы.
— Четыре огня все ярче —
и глаз отвести нет мочи.
— Наверно, медную утварь
там чистят до поздней ночи.
Луна, чесночная долька,
тускнея от смертной боли,
роняла желтые кудри
на желтые колокольни.
По улицам кралась полночь,
стучась у закрытых ставней,
а следом за ней собаки
гнались стоголосой стаей,
и винный янтарный запах
на темных террасах таял.
Сырая осока ветра
и старческий шепот тени
под ветхой аркою ночи
будили гул запустенья.
Уснули волы и розы.
И только в оконной створке
четыре луча взывали,
как гневный святой Георгий.
Грустили невесты-травы,
а кровь застывала коркой,
как сорванный мак, засохшей,
как юные бедра, горькой.
Рыдали седые реки,
в туманные горы глядя,
и в замерший миг вплетали
обрывки имен и прядей.
А ночь квадратной и белой
была от стен и балконов.
Цыгане и серафимы
коснулись аккордеонов.
— Если умру я, мама,
будут ли знать про это?
Синие телеграммы
ты разошли по свету!..
Интервал:
Закладка: