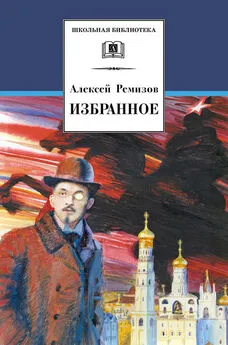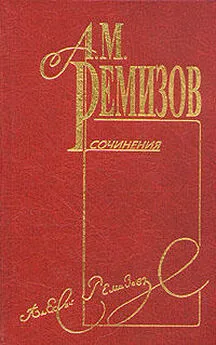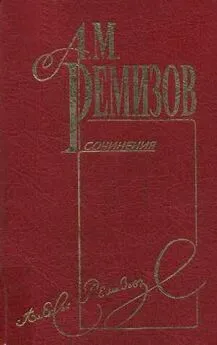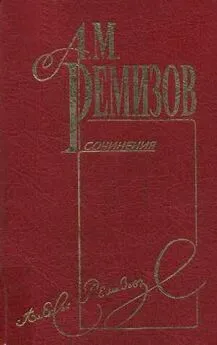Алексей Ремизов - Избранное
- Название:Избранное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Детская литература»4a2b9ca9-b0d8-11e3-b4aa-0025905a0812
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-08-004201-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Ремизов - Избранное краткое содержание
В сборник замечательного мастера прозы, тончайшего знатока и пропагандиста живого русского языка Алексея Михайловича Ремизова (1877–1957) вошли произведения разных жанров: сказки из книги «Посолонь», отдельные главы из романа-хроники «Взвихренная Русь», посвященной жизни русской интеллигенции в революционном Петербурге-Петрограде в 1917–1921 гг., мемуарные очерки из книги «Подстриженными глазами», плачи и пересказ жития «О Петре и Февронии Муромских».
Для старшего школьного возраста.
Избранное - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И в одиночку, без неизменного Пугалы, я рисовал мелом на заборах, где мелом же грозила полицейская надпись: «здезь строго воспречаетца останавливатса».
Но эти мои заборные рисунки, как и мои краски, едва ли были кому понятны: все было грандиозно и необычайно, как тот мир необычайный, в котором проходила моя загадочная жизнь, пронизанная каким-то трепетным чувством, как в жутком сновидении.
И сны мне снились всегда красочные – громадные «первозданные» с окрашенными звуками, и собственный мой голос звучал мне звонко-голубым.
Краской красилось и то, что я видел, и то, что я слышал или, что то же, все было в звуках, и однажды, как в сказке, я приложил ухо к земле – к московскому дикому камню, и дикий серый камень заговорил.
Музыкант
Родился ли я с песней – нет, это не музыкальный ящик! Иду ли по улице или сижу дома один, вдруг – как из распахнувшихся окон – слышу: поет; оно поет, как отдаленный голос: песней он выбивается из глуби и льется тонко ливом. Но кто не чувствовал в себе это песенное, скрытое, о чем никак не узнать по лицу человека? И в молчаливом метро, пусть через грохот, а можно было бы подслушать и арию и хор.
Но то, о чем храню память, а осталось – какие-то крохи, как отблеск, это – мое, только у меня, да наверно есть и бывало у каких-то еще «уродов»;
пелось не только во мне, а и вокруг – от звезды до камня; весь мир, живой и мертвый, пронизан был звуком: там, где был свет и цвело, там звенело. Долго я не мог оценить всю бессмысленность загадки: «…зеленое и поет» – да как же иначе, раз зеленое, значит, поет и не может не петь!
Ничего так не любил я, как ветер; я заслушивался его воем – его хаотическая песня была мне как музыка: серый – зеленая рожица – он примащивался в теплой трубе и, сидя на корточках (одна нога куриная, другая утиная), выл, ничего не видя, ничего не желая знать, выл и, перевыв, срывался и улетал на «водопой»; я слушал, боясь шевельнуться: вернется… если бы вернулся! В бурную ночь на океане, наконец-то дождавшись, я прислушиваюсь и с тем же трепетом к гудущим голосам; в их музыке тоже безразличие, ничего не слыша, ничего не желая знать, гудут, но они не серые, как московский домашний ветер, цвет их – цвет ореха, их целый оркестр, и в нарастающем перебойно-извилистом чугунном взливе они окрашиваются алым – сок зеленых фиг. Бурная музыка не проходит бесследно: морю она принесет безмятежность, но выдержать нечеловечески гудущие подъемы мне так же трудно, как глазам излучающееся безмятежно-лучистое море; я знаю, крот в своей норке, живя, как и я, жуткою жизнью, не спит, слушает в такие ночи, ну, а потом медвежьей своей лапкой жалуется на сердце.
С пяти лет я вступил в круг церковных служб: в субботу в шесть часов вечера ко всенощной; в шесть утра в воскресенье к ранней обедне. Я пел на клиросе. И все мои братья. И с нами псаломщик Петр Егорыч Инихов с «перерезанным горлом»: в его взбученных глазах и финиковом лице, как окаменело, отчаяние; говорили, что у него был редкий баритон, но после «случая», почему он и очутился в нашем бедном приходе, трудно было удержаться от смеха – и досада и жалко. А управлял хором дьячок Николай Петрович Невоструев: ходил он в подряснике, белая борода веером, плешь пророческая, а голос Берендея из «Снегурочки» – усердные старухи подходили к нему под благословение, как к священнику; не прерывая пения, для крепости и чистоты голоса, он изловчался внюхнуть в обе ноздри и отряхнуться – ссыпавшийся табак падал на псаломщика. А пел он по «крюкам».
За два года, не пропуская ни одной службы, я обвык петь « обиход» – на восемь гласов, но особенно отличался в знаменных «догматиках» . В детстве я никогда не плакал, а кричал, за что и получил прозвище «орало мученик», так, должно быть, я наорал себе альт. Альтом я и пел – наука Николая Петровича Невоструева – «В Чермнем мори неискусобрачные невесты образ написася иногда: тамо Моисей разделитель воды…». Очень я любил эти песнопения: любил и сам петь и слушать, как пели нерушимо и крепко державшие веру в «старое пение». На Великом посту с братом мы выходили на амвон: «Да исправится молитва моя», а в Страстную неделю: « Чертог твой». Каждое слово мне как полная чаша, но голос никогда не изменял мне такие бывают только у мальчишек – альты: они как горные ручьи, зеркало неба, в них тихо проходят облака, а ночью сеются звезды, не дрогнув.
Но из всех песнопений по какому-то напеву меня особенно трогало « величание»: в хоре я слышал свой голос – что я тогда понимал? Но я ужасно чувствовал с самой первой памяти какую-то совесть жизни, какой-то стыд за свою жизнь, за то, что одет, что вернусь из церкви домой, буду чай пить и лягу спать в тепле, – не за себя, только сердце было мое и мой голос, я пел за все человеческое горе, за брошенных, усталых и обреченных, за человеческую беду и бедствия, за это безответное за что? за что? за что? – наша жизнь проходила на фабричном дворе, рано я заметил, как тесно жили люди, рано услышал жалобу и уж много видел несправедливости, злого равнодушия и злобы; мой голос подымался из пучины – « величаем Тя…» и в ответ я видел, как старик священник Алексей Димитриевич Можайский, кадя, вдруг останавливался, и в голубом тонком облаке ладана глаза его наливались слезами.
Как пел Самойловский маляр, с растяжкой, тонко – золотой воздушный Матвей, как мне забыть! И еще два голоса легли в мою память: цыганский и ямщицкий.
Двоюродный брат моей матери, Николай Николаевич Дерягин, московский нотариус, студентом, ровесник матери, участвовал с ней в Богородском кружке первых «нигилистов»; в нем было что-то и от А. Р. Артемьева-«Вия» и от Н. А. Зверева-«философа»: волосяная запутанность и настороженная мрачность; бывал он у нас очень редко и за чаем, как и «Вий», вспоминал с матерью незапамятное, для нас загадочное, из своей молодости; мне запомнились названия опер, которые они вместе слушали, и имена итальянских певцов. Он женат был на цыганке Елене Корнеевне.
С жадностью я слушал, как она пела – лад ее песен, ее звучащую дикую душу и огонь ее «горикого сердыца» через много лет, когда и в моей жизни открылось незапамятное, я встретил в цыганской рапсодии Сельвинского и вспомнил до мелочей какой-то зимний вечер, встрепенувшиеся глаза и при первом звуке, как упавшие стены комнаты, вдруг открывшийся простор – охваченный зноем, пересохшими губами повторял я о какой-то загубленности и вековечной муу-уке: « На западе полымя буланною падалицей полями да долами метелица прядается…»
А еще приходил к нам в дом наш дальний родственник, студент Епишкин. Епишкины – московские ямщики, из рода в род ямщики, вот уж дед никогда, чай, не думал, что внук не с павлиньим пером, а с голубым околышем на своих-на-двоих пойдет мерять московские кривоколены. Писемский в «Взбаламученном море» вспоминает свою встречу в московском биллиарде – когда я читал: да это Коля Епишкин! – подобрав высоко грудь, пел он чистым тенором: в его песнях бесконечная русская дорога, удаль и русское « скушно », использованное Толстым во «Власти тьмы».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: