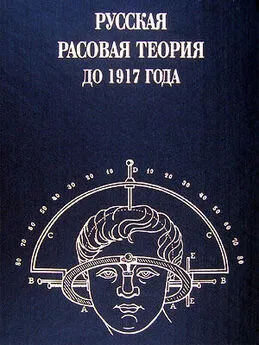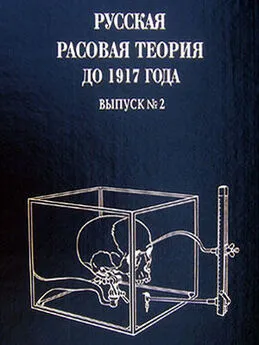Семён Раич - Поэты 1820–1830-х годов. Том 2
- Название:Поэты 1820–1830-х годов. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1972
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Семён Раич - Поэты 1820–1830-х годов. Том 2 краткое содержание
1820–1830-е годы — «золотой век» русской поэзии, выдвинувший плеяду могучих талантов. Отблеск величия этой богатейшей поэтической культуры заметен и на творчестве многих поэтов второго и третьего ряда — современников Пушкина и Лермонтова. Их произведения ныне забыты или малоизвестны. Настоящее двухтомное издание охватывает наиболее интересные произведения свыше сорока поэтов, в том числе таких примечательных, как А. И. Подолинский, В. И. Туманский, С. П. Шевырев, В. Г. Тепляков, Н. В. Кукольник, А. А. Шишков, Д. П. Ознобишин и другие. Сборник отличается тематическим и жанровым разнообразием (поэмы, драмы, сатиры, элегии, эмиграммы, послания и т. д.), обогащает картину литературной жизни пушкинской эпохи.
Поэты 1820–1830-х годов. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
279. «Полярная звезда», кн. 6, Лондон, 1861, с. 172; «Русская потаенная литература XIX столетия», Лондон, 1861, с. 308, тот же текст, но под загл. «Торжество смерти». Печ. по «Полярной звезде», с уточнением ст. 255 по МП (см. ниже). К фамилии автора, указанной под загл. в «Полярной звезде», сноска: «О Печерине — ниже в отрывках из „Былое и думы“». К слову «все» в ст. 421 второй части поэмы («Театр») в обоих изданиях примеч. публикатора — Герцена или Огарева: «В некоторых рукописях здесь поставлено собственное имя, но оно так мудрено, что мы не решились принять это чтение в свой текст». «Песнь умирающего поэта» и «Под стенами Сантарема…» дважды печатались как отдельные стихотворения в зарубежном сб. «Лютня» (Лейпциг, изд. 1869 и 1873). Часть «Песни о графине Турн» (ст. 230–265 поэмы) под загл. «Богемская баллада» была напечатана самим П. в его очерке «Отрывки из путешествий доктора Фуссгэнгера» (см. МН, 1835, декабрь, кн. 2, с. 356, подпись: П…). Конец «Песни» опущен, несомненно, по цензурным причинам. В своем очерке П. рассказывает, при каких обстоятельствах довелось ему познакомиться с легендой о графине Турн. Во время пребывания в бернской гостинице, сообщает он, однажды «отворилась дверь и вошла слепая старушка с арфою; ее вела за руку девушка лет восьми… Хозяин рассказал, что эта старушка — какая-то богемка, которая, бог знает какими судьбами, попала в Берн и живет несколько лет подаянием благодетельных граждан… Старушка приютилась в уголку, настроила кое-как свою арфу, заиграла жалобную мелодию и сипловатым голосом запела какую-то старую богемскую балладу, которая, говорят, основана на истинном происшествии. Содержание этой песни врезалось в моей памяти, и я постараюсь рассказать вам его в стихах». Приведя текст баллады, П. замечает: «Чем кончилась любовь графини и егеря, не помню» (с. 357). Вопреки этому рассказу, в авторском примеч. к «Балладе о графине Турн» (см. текст поэмы) утверждается, что историю графини Турн П. поведал «содержатель гостиницы в Течене». Это явное недоразумение — либо результат описки, либо постороннего вмешательства (Богемии П. не посещал). «Февральский праздник» (в подзаг. поэмы) — годовщина окончания университета, торжественно отмечавшаяся друзьями П. по кружку Никитенко 11 февраля. Эти праздники сопровождались чтением стихов членов кружка (М. П. Сорокина и П. в особенности). Подзаг. дает основание датировать поэму концом 1833 г., так как произведение пересылалось из-за границы с определенным запасом времени, чтобы поспеть к 11 февраля. «Я давным-давно послал вам пакетец со всяким стихотворным вздором — это не прямо для февральского праздника, а только относится к оному; это, как уже однажды сказано, не литературное произведение, а бюллетень о состоянии моего здоровья», — писал П. 12 марта 1834 г. в Петербург членам «святой пятницы», т. е. Никитенко и его друзьям (Гершензон, с. 95). По резонному предположению Гершензона, сцены из «Вольдемара» и поэму П. отправил ранее — при письме от 9/21 декабря 1833 г. (Гершензон, с. 64). В предисловии к «Русской потаенной литературе…» Огарев неизвестно почему утверждал, будто бы «поэма П. относится к 1837 или 38 году» (Избр. произв., т. 2, М, 1956, с. 491). Более поздняя датировка этого произведения позволила Е. Боброву (см. его кн.: «Литература и просвещение в России в XIX веке», т. 4, Казань, 1902, с. 37) заявить о том, что в «Pot-pourri…» П. подражал эсхатологической поэме А. В. Тимофеева «Последний день», впервые опубликованной лишь в октябре 1834 г. (БдЧ, № 10). Скорее всего, дело обстояло прямо противоположным образом: с «Pot-pourri» Тимофеева мог ознакомить тот же Никитенко, с которым он сблизился летом 1834 г. Этим молено объяснить некоторое сходство двух произведений, хотя, очевидно, у обоих был один общий источник — пушкинский «Пир во время чумы». В поэме П. имеются злободневные отклики на события гражданской войны в Португалии (см. об этом ниже), что вполне согласуется с датировкой концом 1833 г. Следует отметить, что Гершензон в своей более ранней работе — этюде о П. (вошел в его кн.: «История молодой России», М., 1908, с. 104) — поддержал точку зрения Е. Боброва, а в монографии о П. отказался от нее. Широкого хождения по рукам поэма не получила: «Рукопись, — писал Огарев, — не вышла из пределов тесного кружка друзей и не отозвалась в публике» (там же, с. 491). Вероятно, поэтому ни одной рукописи ее до нас не дошло. «Песню о русском юноше» под загл. «Сцена в Португалии под стенами Сантарема» сам автор процитировал в письме к старому товарищу по кружку Никитенко Ф. В. Чижову от 24 февраля 1873 г., а «Монолог умирающего поэта» — в письме к нему же от 16 февраля 1866 г. (оба письма — ГБЛ). В письме к Чижову от 26 сентября 1871 г. П. писал: «Так называемое „Торжество смерти“ напечатано в „Полярной звезде“ на 1861 с несколькими письмами между мной и Герценом. Она же напечатана и в „Русской потаенной литературе“. Ее настоящий титул „Pot-pourri, или Чего хочешь, того просишь“. Это было написано, если помнишь, для нашего февральского праздника в 1834 г.» (ГБЛ, ф. Ф. В. Чижова). 14 августа 1875 г. П. снова писал Чижову: «В 1861 Герцен напечатал „За синим за морем, в далекой земле“ под заглавием „Торжество смерти“ совсем без моего ведома, так что я узнал об этом только два года после. Когда при свидании со мною в 53 г. Герцен упомянул об этой пьесе, то я до такой степени об ней позабыл, что даже не мог понять, о чем он говорил. Да, кроме того, мне никогда и в голову не приходило, чтобы она когда-либо удостоилась печати» (ГБЛ, ф. Чижова). В очерке «Pater V. Petcherine», опубликованном в той же кн. 6 «Полярной звезды» и вошедшем в часть 7 «Былого и дум», Герцен рассказал о встрече с П., состоявшейся близ Лондона в 1853 г. Желая заполучить рукопись поэмы, Герцен обратился к автору: «У меня были в руках в Петербурге несколько ваших стихотворений; в числе их есть трилогия „Поликрат Самосский“, „Торжество смерти“ и еще что-то; нет ли у вас их, или не можете ли вы мне их дать? — Как это вы вспомнили такой вздор? Это незрелые, ребяческие произведения иного времени и иного настроения. — Может, — заметил я, улыбаясь, — поэтому-то они мне и нравятся. — Да есть они у вас или нет? — Нет, где же!.. — И продиктовать не можете? — Нет, нет, совсем нет. — А если я их найду где-нибудь в России, печатать позволите? — Я, право, на эти ничтожные произведения смотрю, точно будто другой писал; мне до них дела нет, как больному до бреда после выздоровления» (А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 11, М., 1957, с. 395). В августе 1855 г. в обращении к читателям «Пол. звезды» Герцен просил своих корреспондентов доставить ему списки нелегальных произведений, в том числе «Торжество смерти» и «Поликрата Самосского» (указ. изд., т. 12, с. 270). Е. Бобров указал, что в романе «Бесы» Достоевский дает довольно подробный пересказ ряда эпизодов поэмы П. (см.: Е. Бобров, указ. изд., с. 56). Время написания и обстоятельства ее появления в печати, о которых Достоевский, по всей видимости, узнал от Герцена при свидании с ним за границей в 1862 г., переданы в романе с большой достоверностью. Пересказ поэмы включен в «биографию» героя романа С. Т. Верховенского, в юности сочинившего либеральную фантасмагорию в стихах. Но в «поэме» Верховенского несколько эпизодов и деталей не имеют никакого соответствия с поэмой П. Учитывая это обстоятельство, а также слова Герцена: «трилогия „Поликрат Самосский“, „Торжество смерти“ и еще что-то», Гершензон построил эффектную гипотезу о том, что известный текст поэмы — часть не дошедшей до нас трилогии, с которой был знаком Достоевский. В «Бесах» содержание «поэмы» Верховенского передано следующим образом: «Это какая-то аллегория, в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть „Фауста“. Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил, и в конце всего хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чем-то неопределенном, большею частию о чьем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется, и наступает какой-то „Праздник жизни“, на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал, то есть предмет уже вовсе неодушевленный. Вообще же все поют беспрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бранятся, но опять-таки с оттенком высшего значения… Затем вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут. И, наконец, уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее, наконец, достраивают с песней новой надежды, и когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей» (ч. 1, гл. 1). Как удалось установить, весь эпизод с «хором неживших душ» взят из стихотворения Е. П. Ростопчиной «Нежившая душа. Фантастическая оратория», датированного декабрем 1835 г. и вошедшего в т. 1 «Стихотворений» поэтессы (изд. 2, СПб., 1857, с. 153–161). «Хоры» всевозможных духов и говорящих стихий в изобилии представлены в мистериях А. В. Тимофеева «Последний день» (1834), «Жизнь и смерть» (1834) и «Елисавета Кульман» (1835). В последней подают голоса бабочка и песчинка (у Достоевского — «насекомое» и «минерал»). Эти мистерии вошли в т. 1 «Опытов» Тимофеева (СПб., 1837, с. 309–347, 111–143 и 169–255). В «поэме» Верховенского — бесспорно, сплавились мотивы и образы, почерпнутые из различных литературных источников. Что касается Герцена, то его ввели в заблуждение сложная фрагментарная композиция и рубрикация произведения, особенно невнятно выглядевшие, как это легко представить, в рукописи. В произведении действительно можно выделить три части: сцена праздника, театральное представление («Языческий Апокалипсис») и монолог автора, но это не «трилогия», а одно произведение. Первая и вторая часть, в свою очередь, состоят из песен и сцен. Так, вторая часть — «Театр» — содержит пролог, собственно спектакль, где Поликрат Самосский — имя персонажа, а не загл. (в рукописи заголовки и имена персонажей вряд ли четко дифференцировались), и интермедию «Торжество смерти». «Еще что-то», как выразился Герцен, — либо первая часть (пир друзей), либо же — «Песнь умирающего поэта». В поэме использовано распространенное поверье о том, что Петербург погибнет от наводнения. Ср. стихотворение М. А. Дмитриева «Подводный город» (№ 37). На эту же тему — анонимное стихотворение «И день настал, и истощилось…», приписывавшееся без достаточных оснований Лермонтову и А. И. Одоевскому. О теме наводнения в русской литературе см.: Е. А. Бобров, Мелочи из истории русской литературы… (РФВ, 1908, Ms 1–2, с. 282); Н. П. Анциферов, Душа Петербурга, Пг., 1922, с. 87–96. Пряжа тонкая прядися и т. д. По-видимому, этот текст восходит к народной песне, которую П., по его собственному признанию, слышал в десятилетнем возрасте от дворовых девушек в одном из глухих мест Черниговской губернии («Замогильные записки», М., 1932, с. 122). Под именем Эмилии (или Софии) П. в других стихотворениях (см. №№ 272–276 и 278) воспевал свою знакомую, воспитанницу Смольного института, к которой был неравнодушен (ей посвящены неопубликованные стихотворения «Письма к Эмилии» — ГБЛ). Как с войском Дон Педро вошел в Лиссабон и т. д. Отклик на гражданскую войну в Португалии, разгоревшуюся в 1832–1834 гг. В Лиссабон войска конституционалистов, предводительствуемые Доном Педру (1798–1834), вступили в июле 1833 г. Осада древней резиденции португальских королей г. Сантарема, где укрылись сторонники абсолютистской монархии во главе с узурпатором престола Мигелем Брагансским, длилась с ноября 1833 по 14 мая 1834 г. Мария да Глория (1819–1853) — королева Португалии; свергнутая малолетней с престола Мигелем Брагансским, была восстановлена в своих правах после окончания гражданской войны — в 1834 г. Немезида (греч. миф.) — богиня возмездия. От гранитных берегов — намек на гранитные берега Невы в Петербурге. Пять померкших звезд — пять казненных декабристов. Звезды южных стран — вероятно, декабристы Южного общества. Эвмениды (греч. миф.) — богини мщения, обитательницы Аида. Поликрат Самосский — тиран, правивший на о. Самос в VI в. до н. э. В поэзии его имя известно в связи с легендой о Поликратовом перстне, которой воспользовался Шиллер, а вслед за ним — Жуковский. Багряница — царская мантия. Вся жизнь моя — одно желанье и т. д. По поводу этих строк в 1869 г. П. в письме к Никитенко сказал: «Как хорошо я угадал. Заметьте: „набросанное на картон“. Значит, не хватало духу или гения, чтоб окончить картину: так и остался бедный эскиз» (Гершензон, с. 209). Пропуск последнего стиха поэмы, обозначенный строкой точек, — прием, рассчитанный на догадливого читателя. Контекст и рифма подсказывают следующие слова: «Пронзит (или проткнет) тирана выю».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: