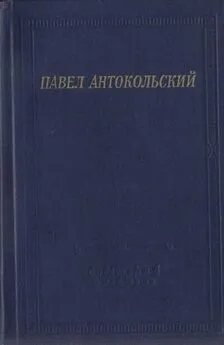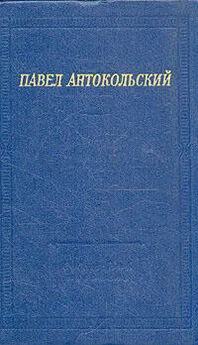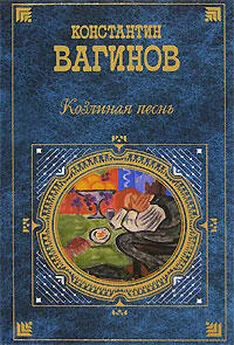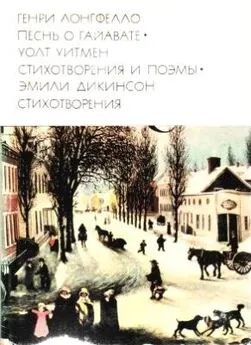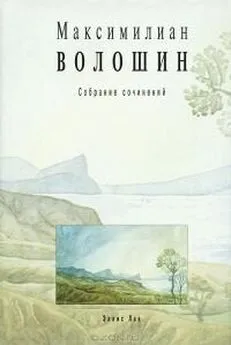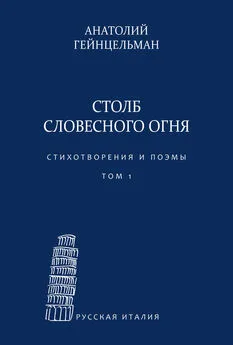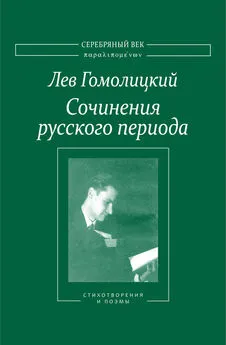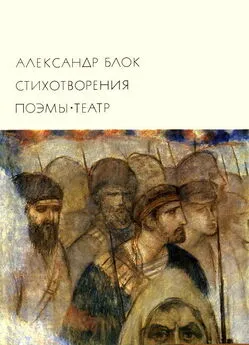Павел Антокольский - Стихотворения и поэмы
- Название:Стихотворения и поэмы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1982
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Антокольский - Стихотворения и поэмы краткое содержание
Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза. Гражданский пафос, сила патриотизма, высокая культура стиха придают поэтическому наследию П. Антокольского непреходящую ценность.
Настоящее издание является первым опытом научно подготовленного собрания произведений выдающегося советского поэта. Все лучшее из поэтического наследия Павла Антокольского вошло в книгу. Ряд стихотворений публикуется впервые.
Стихотворения и поэмы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Может возникнуть вопрос: не слишком ли много стихов о поэтах, живописцах, скульпторах, актерах и прочих служителях муз? Не ограничивает ли традиционное и давнее пристрастие Антокольского к теме искусства жизненный диапазон его поэзии?
Но в трактовке Антокольского тема искусства всякий раз оказывается шире самой себя и становится символом неиссякаемого духа творчества, проникающего во все поры человеческого существования. Искусство для Антокольского прежде всего — духовный подвиг, безраздельная поглощенность творчеством, одна из наивысших форм служения обществу. Антокольский всегда так или иначе утверждает свой идеал человеческой личности: волю к творчеству, жажду риска, одержимость идеей, совершенство мастерства.
Давно отмечено, что Антокольский был, как никто из современных поэтов, одарен способностью перемещения во времени и пространстве.
Так, например, оказавшись в бельгийском городе Дамме, поэт тотчас вспоминает гезов, борцов за свободу Франции.
Бельгийские баллады возникли через сорок лет после стихов о Швеции, Германии, Франции. Но зрение поэта не стало менее острым, темперамент не оскудел, сила обличения не только не притупилась, но приобрела новый оттенок — сатирический. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть любую из бельгийских баллад — «Балладу о пропаганде», где Старый Скептик и Буржуа развертывают свое убийственно саморазоблачительное кредо, «Балладу о поэзии», где звучит злая издевка над кабинетно-магнитофонной профанацией поэтического творчества, или «Балладу сюрреалистическую», где поэт, используя ультрасовременные литературные приемы, посмеивается и над ними, и над всем торгашески-манекенным миром, который предстал перед ним дождливой ночью на улицах ярко освещенной бельгийской столицы.
Чувство времени, чувство истории — таков тот «магический кристалл», овладев которым Антокольский, собственно, и стал самим собой, тем Антокольским, чья поэзия неотъемлемо вошла в советскую литературу.
В книге «Четвертое измерение» есть раздел «Путевой журнал», посвященный Адриатике. На первый взгляд, он лишен прямой связи с общим идейным замыслом книги, чей главный герой — Время. На самом же деле каждое стихотворение — и «Адриатика впервые», и «Адриатика в полдень», и «У Диоклетиана», и «Сараево, 1914» — продиктовано все тем же чувством истории, чувством времени.
Оказавшись в Сараеве, Антокольский, естественно, вспоминает о Гавриле Принципе. Не только потому, что поэт вообще привык мыслить историческими ассоциациями, но и потому, что выстрел в Сараеве занимал его на протяжении многих лет. Речь о нем так или иначе шла и в других произведениях: «1914» (вошло в книгу «Запад»), «Кощей» и — несколько позже — «Пикассо».
В «Четвертом измерении» Антокольский пишет о замысле своей книги: «Пускай он не современный, он все-таки своевремен».
Подлинно современным делают поэта не свободный стих и корневая рифма, а характер и тип мышления. Это в свое время с полной убедительностью доказала, например, книга Я. Смелякова «День России». Одна из лучших статей об этой книге принадлежит Антокольскому. Она заканчивается четверостишием Смелякова, выбранным, конечно, не случайно:
Мне этой радости доныне
Не выпадало отродясь.
И с каждым днем нерасторжимей
Вся та преемственность и связь.
Слово «история» Смеляков стал писать с большой буквы. Кто, как не Антокольский, должен был тотчас заметить это и обрадоваться от всей души. Его полку прибыло!
Отличительная черта Антокольского второй половины пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годов — торжество исторического мышления. Именно благодаря своему историзму и «Высокое напряжение» и «Четвертое измерение» по праву должны быть названы книгами современными.
«Высокое напряжение» — современная книга не только потому, что в ней есть стихи о полете Юрия Гагарина. Даже тихие лирические пейзажи увидены глазами поэта, полностью принадлежащего современности:
Два века — нынешний и прежний —
Горды соседством и собой, —
Антенна рядом со скворешней
Над подмосковною избой.
Но, протянув друг дружке руки,
Две разных палки врозь торчат.
Ждут телевиденья старухи,
А внуки пестуют скворчат.
«С тобою, время неистовое, Я жизнь мою перелистываю» — так Антокольский начинает книгу «Четвертое измерение» и так начинается диалог с временем, идущий на всем ее протяжении.
Этот диалог продолжается и в поэме «Пикассо». Логически говоря, поэт рассказывает о том, как Пикассо создал своего знаменитого Голубя. Но как мало дает это логическое определение!
В образе молнии, ударившей в глаза художнику и осветившей для него весь мир, Антокольский соединяет и динамическую картину века с его непримиримыми противоречиями, и мгновенное творческое озарение, внезапно открывающее глаза художнику на все, что его окружает. «Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы!» Думаю, не ошибусь, если скажу, что тень пушкинского «Пророка» витала над Антокольским, когда он писал «Балладу молнии».
В одной из статей, опубликованных после выхода книги «Четвертое измерение», Антокольский, характеризуя свою музу, подчеркивал, что она «и на склоне лет осталась служанкой истории».
Это подтвердила поэма, над которой он тогда начал работать, — «Повесть временных лет». По замыслу автора, она должна была «вместить в себя всю его жизнь, а значит, и события нашего века» [49] «Литературная Россия», 1966, 18 ноября.
. Недаром эпиграфом к ней были взяты слова пушкинского Пимена: «На старости я сызнова живу, Минувшее проходит предо мною…»
Однако задуманного широкого историко-биографического полотна, к сожалению, не получилось. Поэтическую летопись своей жизни Антокольский оборвал, в сущности, на прологе.
С «Повестью временных лет» связан законченный примерно тогда же «Венок сонетов. 1920–1967», вошедший в цикл «Зоя Бажанова». В нем поэт оглядывается на пройденный им путь длиною почти в полвека. Если угодно, это продолжение «Повести временных лет». Но в «Повести…» поэт развертывал неторопливое эпическое повествование, а сонетная форма диктовала ему совсем другую интонацию: романтическую, приподнятую, эмоционально насыщенную, порой торжественную:
Пусть запылают звездные огни!
Громады солнц, махины мировые,
Для нас одних зажженные впервые,
Предвидят наши судьбы искони.
В конце шестидесятых годов Антокольского постиг тяжелый удар: 30 декабря 1968 года скоропостижно скончалась Зоя Константиновна Бажанова, его жена и верный друг, безотлучный спутник почти полувека его жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: