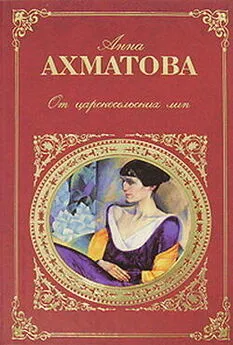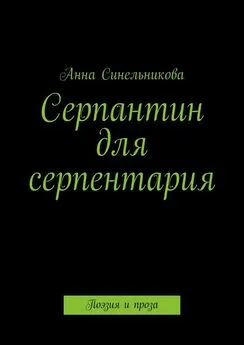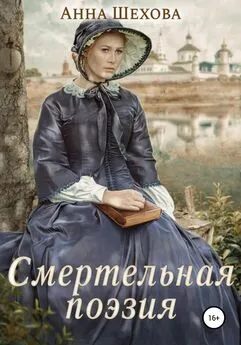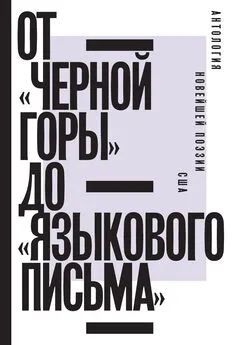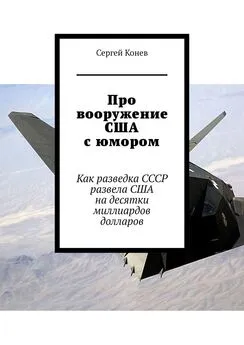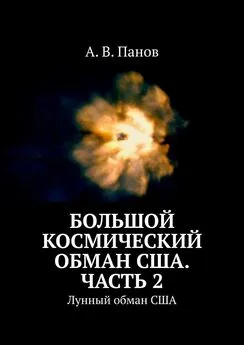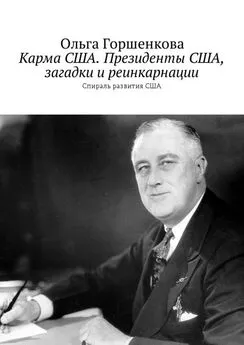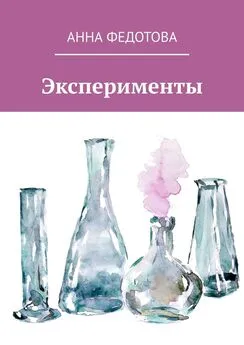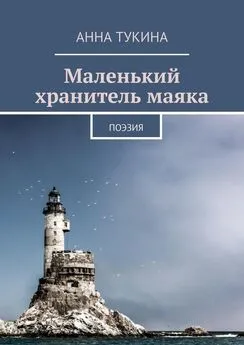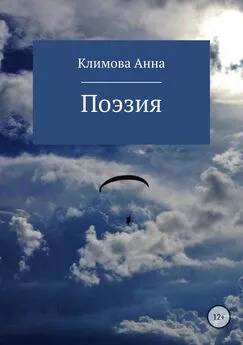Анна Брэдстрит - Поэзия США
- Название:Поэзия США
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1982
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Брэдстрит - Поэзия США краткое содержание
В книгу входят произведения поэтов США, начиная о XVII века, времени зарождения американской нации, и до настоящего времени.
Поэзия США - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А проторил тропу Робинсон. У него впервые наметился синтез жизненной достоверности и символической обобщенности, когда за человеческими типами провинции, обрисованными лаконичным, точным штрихом, виден целый пласт американской действительности, целая историческая эпоха, схваченная в ее сущности, — глубоко драматичной, пусть это и не бросается в глаза. У него впервые осуществлены важнейшие принципы реалистической поэтики.
Реализм и стал для американской поэзии той магистральной дорогой, которую нашло поколение 10-х годов.
Это было на редкость талантливое поколение. Лишь поначалу его представителей объединял пафос поиска художественных средств, отвечающих содержанию, которое принес XX век. Очень быстро начали выступать различия: не только определились творческие индивидуальности, но завязались принципиальные споры — эстетические, а потом и идейные. Роберт Фрост избрал для себя «старомодный способ быть новым», отверг свободный стих и урбанистическую образность, которыми так увлекались тогдашние дебютанты, и обратился к осмеиваемой романтической традиции от Лонгфелло до Дикинсон, доказав ее плодотворность и для самой современной поэзии. Творческий путь Фроста охватывает полвека, и вплоть до последней своей книги «На вырубке» (1962) ему приходилось выслушивать упреки в архаичности и консерватизме. Он никогда не считал новаторство самоцелью, и конфликт с доминирующими поэтическими веяниями эпохи оказался для него неизбежным. Не только литературный конфликт, «любовная размолвка с бытием» — так определил Фрост свою позицию. Его называли конформистом, как бы не замечая сдержанного, но всегда ощутимого драматизма тональности его стихотворений.
В действительности он был поэтом философского склада, неспешно и добротно создававшим подлинно самобытную картину мироздания, в котором слиты до нераздельности природа — личность — человечество. Его классический белый ямб традиционен лишь по внешности, в нем множество необычных оттенков, которые, по словам самого Фроста, «обогащают мелодию драматическими тонами смысла, ломающими железные рамки скупого метра». В его поэтике очень старые традиции, идущие еще от фольклора, обрели новую жизнь, впитав в себя все лучшее, что было сделано романтиками. И возник синтез, доказавший свою жизнеспособность и важность, — достижениями не одного лишь Фроста, но и многих других поэтов, избравших, порою этого не сознавая, ту же дорогу или близко к ней подошедших: речь идет об Эдне Сент-Винсент Миллэй, о Берримене, о Ретке, о Роберте Лоуэлле.
В стихах Фроста неизменен выношенный, глубокий взгляд на стремительно меняющуюся, полную жестоких конфликтов американскую реальность нашего столетия. Он выразил свое время во всем сложнейшем его содержании — идейном, нравственном, общественном, духовном, психологическом, он стал подлинно национальным поэтом. Растущее отчуждение между людьми, распад патриархального мира сельской Америки, еще такого целостного и такого человечного в ранних книгах Фроста, безысходность духовных тупиков личности, утратившей этические опоры, а с ними и сознание небесцельности своей жизни, — все эти мучительные коллизии эпохи отразились в его стихотворениях. Но не поколебалась вера Фроста в нравственные силы человека и не ослабло вдохновлявшее его чувство истории, через трудные перевалы движущейся к конечному торжеству подлинно гуманного миропорядка. О самом Фросте можно сказать собственными строками поэта:
Вся жизнь его — искание исканий.
Он будущее видит в настоящем.
Он весь — цепь бесконечная стремлений.
На исходе века ясно видна непрерывность и значительность поэтической традиции, берущей начало в сборниках Фроста 10-х годов. От этого же периода ведут свою родословную другие важнейшие направления. Одно из них связано с творчеством чикагских поэтов Мастерса, Линдсея и в особенности Сэндберга. Все трое были последователями Уитмена. Сэндберг воспринял его уроки всего глубже. В каждой его книге различимы уитменовские темы и интонации. Вместе с тем он немало почерпнул из опыта экспериментальных школ начала века. Сэндберг не разделял их авангардистских установок, но и ему передалось увлечение лаконичным и точным поэтическим словом, гротескной образностью, публицистичностью, резкими контрастами — той новой изобразительной гаммой, которая по-разному заявляла о себе у приверженцев имажизма, футуризма, экспрессионизма.
Все решали, разумеется, не сами по себе поэтические средства, а творческие задачи, которым они подчинялись. Задачей Сэндберга был реалистический образ эпохи, уитменовское Здесь и сейчас оставалось определяющим принципом и для него. Поэтому отдельные находки поэтов-авангардистов, пожалуй, именно у Сэндберга выявили свою истинную ценность, и все формальное им было отброшено, а все существенное пошло в дело, помогая создавать действительно многогранную и динамичную картину американской жизни.
Маяковский, назвав его «большим индустриальным поэтом Америки», точно определил сущность творчества Карла Сэндберга. Это поэзия трудовой окраины города, поэзия заросших грязью приземистых рабочих кварталов и улиц, поэзия «дыма и стали», как озаглавил он свой сборник 1920 года. Поэзия «круто посоленного хлеба» и «усталых, пустых лиц» в трамвае у заводских ворот, поэзия вызывающе прозаичная, нескрываемо газетная и в то же время полная символики, как правило, навеянной буднями громадного современного города, неизменно вещественной, прочно привязанной к реальному, пишет ли Сэндберг о Чикаго с его опустошающими ритмами и социальными полярностями или о прерии с ее бескрайними полями кукурузы и спаленными солнцем солончаками.
Путь Сэндберга не назовешь прямым. В юности он увлекался идеями социализма, и десять петроградских дней оставили пусть не самоочевидный, но неизгладимый след в его поэзии 20-х годов, усиливая радикальные общественные настроения поэта. Своего апогея эти настроения достигли в «красное десятилетие», когда Сэндберг создал книгу «Народ — да» (1936), мыслившуюся как своего рода «Листья травы» нашего времени. Потом наступил кризис — духовный и творческий. Он длился много лет, и лишь в последней книге «Мед и соль» (1963) вновь появились та масштабность мысли и та пластика образа, которые так характерны для его лучших стихотворений.
В этих подъемах и спадах, конечно, сказались не только противоречия позиции Сэндберга: певец пролетариата, он в целом не поднялся, однако, выше идеалов линкольновской демократии. В них запечатлены те исторические приливы и отливы, которые довелось испытать в наш век Америке. Ими в конечном счете определялся и ритм развития американской поэзии, знавшей и времена настоящего расцвета, и времена оскудения, как, например, десятилетие после 1945 года. Лишь немногим поэтам удавалось пройти дорогу, пролегшую через социальные потрясения XX века, не растеряв передовых убеждений и творческих сил. Так, как это удалось близким Сэндбергу — и по идейной направленности, и по особенностям художественного видения — Арчибальду Маклишу, поэту-революционеру Уолтеру Лоуэнфелсу. Так, как это удалось и самому Сэндбергу, поэту демократической Америки, той, которая
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: