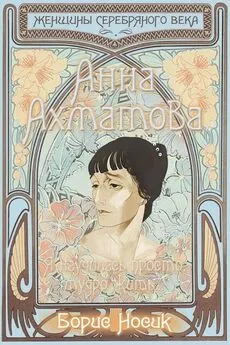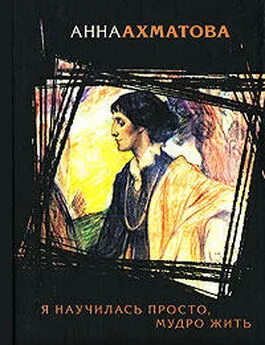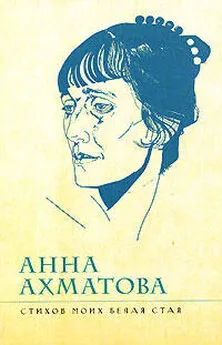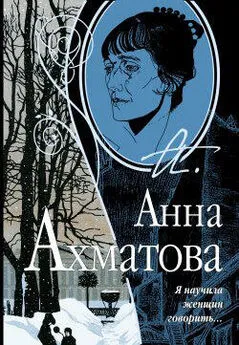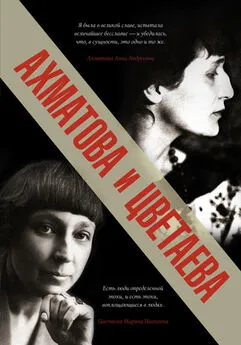Борис Носик - Анна Ахматова. Я научилась просто, мудро жить…
- Название:Анна Ахматова. Я научилась просто, мудро жить…
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Алгоритм»
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-1041-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Носик - Анна Ахматова. Я научилась просто, мудро жить… краткое содержание
Что общего у русской поэтессы и итальянского художника? Сама Анна Андреевна писала об этом романе так: «…все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его – очень короткой, моей – очень длинной».
Автор этой книги – Борис Михайлович Носик – первые десятилетия жизни провел в России, но вот уже много лет предпочитает жить во Франции. Он как никто другой смог понять невероятную историю любви Ахматовой и Модильяни. Именно ее автор посчитал основополагающей в биографии Анны Андреевны Ахматовой.
Анна Ахматова. Я научилась просто, мудро жить… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Итак, искристую зиму, томительную и праздничную северную весну и великолепную багряную осень девочка проводила в Царском, где были маленькие лошадки, экипажи, гвардейцы, нарядные дамы; а лето, начиная с семилетнего возраста, – близ Севастополя, на берегу бухты, в пленительном Новом Херсонесе. Там она бродила одна по пляжу, вольно плавала в море, загорала дочерна, дружила с рыбаками и заслужила у местных прозвище «дикая девочка»: так сообщает она, вполне пристойно, но, может, даже и «дикая девчонка». Кое-что о вольном этом приморском житье можно найти в ранней ее поэме – конечно, уже должным образом стилизованной и звучащей довольно-таки по-блоковски:
Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это – счастье.
В песок зарывала желтое платье,
Чтоб ветер не сдул, не унес бродяга…
Легко представить себе ее – босоногую, длинноногую, худющую, загорелую дочерна, в желтом платье, там, где «бухты изрезали низкий берег». Позднее откопали там из-под земли чудный греческий Херсонес у Прекрасной Гавани, и сколько ни повидал я за свою заграничную жизнь этих белых колонн у синего моря – и в Агридженто, и в Пестуме, на Кипре, на Кало Колонне, – того Херсонеса, Таврического, ввек не забыть. Может, и тогда, в начале века, какие-то обломки валялись на берегу, когда бродила тут дерзкая, загорелая девчонка, уже мечтавшая о любви. В поэме, написанной десятилетье спустя, есть прекрасный принц или король, как всегда, сероглазый, конечно; но и рыбаки там тоже есть – очень, впрочем, благовоспитанные рыбаки:
Я с рыбаками дружбу водила.
Под опрокинутой лодкой часто
Во время ливня с ними сидела,
Про море слушала, запоминала,
Каждому слову тайно веря.
И очень ко мне рыбаки привыкли.
Если меня на пристани нету,
Старший за мною слал девчонку,
И та кричала: «Наши вернулись!
Нынче мы камбалу жарить будем».
Поэма датирована 1914 годом, ее одобрил сам вздыхавший по юной поэтессе сероглазый король Блок, так что разница между царскосельской девочкой и кричащей «нынче мы камбалу жарить будем» девчонкой тут должным образом обозначена. Однако была ли она уже тогда очевидной, эта разница, когда она пряталась с рыбаками под лодкой во время ливня, на берегу? И не был ли одним из тогдашних принцев какой-нибудь красивый мальчик-рыбак, пропахший рыбой? Впрочем, может, и нет. Время пастушеских и рыбацких идиллий тогда уже минуло, а время нового смещения сословий и рас еще не наступило. Было время сероглазых королей. Все ли она рассказала в романтической поэме, что «запомнила чутким слухом»? И так ли еще по-детски невинна была ее тогдашняя девичья молитва? Сказать наверняка не берусь.
А вечером перед кроватью
Молилась темной иконке,
Чтоб град не побил черешен,
Чтоб крупная рыба ловилась,
И чтобы хитрый бродяга
Не заметил желтого платья.
Она писала эту поэму в зеленом, чопорном Слепневе, и в душе ее при этом, похоже, звучали божественные стихи Блока об Италии («с ней уходил я в море»). По ее признанью, поэма эта была для нее расставанием с детством, с былой безмятежностью и дерзостью, с той озорной приморской Аннушкой, которая, по свидетельству друзей, прорывалась в ней из-под спуда и десять, и тридцать, и даже пятьдесят лет спустя. Что же до 1910 года, к которому мы клоним, не торопясь, наш рассказ, в тот год черноморской Аннушке оживать в ней и вовсе было несложно – это для нашей истории очень важно.
Итак, в летние месяцы – море, а в остальные девять – совершенно особый мир Царского Села, еще более царственно-церемонного, чем императорская столица, Петербург. Ибо маленький поселок жил двором и им по большей части кормился, так что лихая крымская девочка всему, что положено здесь было уметь – и держаться с достоинством, и быть гордой и неприступной, и складывать ручки, и кланяться, «учтиво и коротко ответить по-французски на вопрос старой дамы», – всему научилась, «что полагалось в то время благовоспитанной барышне». И конечно, «говела на Страстной в гимназической церкви», не более того. Французский она, по ее рассказам, выучила, «слушая, как учительница занималась со старшими детьми». Старшие – это сестра Инна, на три года ее старше, и брат Андрей, старше ее на шесть лет; оба почти ею не упоминаются, оба умерли молодыми. Андрей покончил с собой. Был еще брат Виктор, убитый большевиками… Она, впрочем, редко ведь упоминала о семье, и это, мне кажется, дурной знак. Нет, она «не ненавидела» брата, «не предала» сестры, но и спаянной семьи, похоже, не было. Изредка отец брал ее «с собой в оперу…». При этом отца она не любила. А попробуйте, отыщите у нее упоминание о смерти матери в 1930-м!. Чему научила ее мать в этом неуютном и недружном доме, из которого сбежал отец? Как вообще готовили «благовоспитанных барышень» к той жизни, которую так скучно называют «реальной»? Ахматова писала в старости, что представление о счастливом и несчастливом детстве – «вздор»… Бедная Анечка… С детства она любила стихи, и мать по ее просьбе бессчетное число раз читала ей те, что помнила наизусть, – громогласного Державина и трогательно-напевного Некрасова («Савраска увяз в половине сугроба…»). А лет с одиннадцати она уже и сама, как многие русские подростки, писала стихи, много-много стихов, погонные метры стихов. Она вспоминает, что отец прочел ее стихи, когда ей было одиннадцать, и отчего-то назвал ее «декадентской поэтессой». Он был, впрочем, лишь морской механик и не обязан был разбираться в литературных течениях лучше, чем кумир левой французской интеллигенции тов. Жданов, сказавший почти те же слова сорок лет спустя. Спутником ее отроческих лет, опять же, как у многих русских подростков, становится Пушкин: однако в еще большей степени – и потому, что она сама так много писала, и потому, что бродила ежедневно по его следам. Пушкин ведь для пишущего или читающего русского – это не просто «солнце русской поэзии»: он еще и мерило вкуса и темперамента, он камертон, он исповедник, он соучастник, он вечный спутник на прогулках; для пишущего он – еще и спасение в мучительные дни и годы, когда не пишется: читай Пушкина или про Пушкина, говори, что занят «пушкиноведением» – сколько их на Руси, «пушкинистов»…
Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Это из ранних ее стихов: она рано научилась передавать эти шорохи, шелесты и плески царскосельского парка, где в холодную воду глядятся беломраморные статуи, пророчащие и славу и смерть («Холодный, белый, подожди,/ Я тоже мраморною стану»), где так неизбежно присутствие смуглого отрока, а на скамейке – то здесь, то там – его забытая треуголка и растрепанный том Парни (сама-то она читала уже Верлена, тоже по-французски), где даже на ветвях висят лиры. Здесь нельзя не писать, и она, конечно же, пишет стихи, эта высокая, тоненькая, очень странная девочка – без конца пишет и уже, конечно, мечтает о славе. Однажды летом, когда они жили на даче под Одессой, в Люстдорфе, мать проездом показала ей крошечную дачку, где она, Анна, увидела свет, и девочка сразу сказала: «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска». Мать огорчилась: такая гордыня, такой моветон. Вспоминая об этом полвека спустя, седая и грузная поэтесса, будто снова устыдившись моветона, приписала: «Это была просто глупая шутка». Да, конечно: но только не всякому подростку такое сразу придет в голову, хотя кто ж из российских подростков не пишет стихи? До славы тогда уже, впрочем, оставалось совсем немного – каких-нибудь лет семь, а до первой публикации – и того меньше…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: