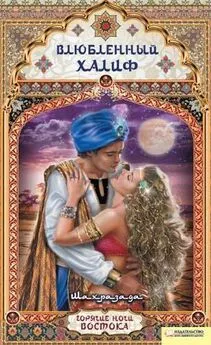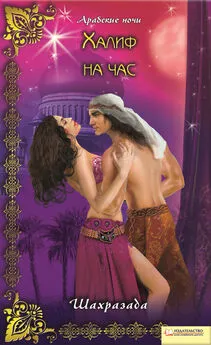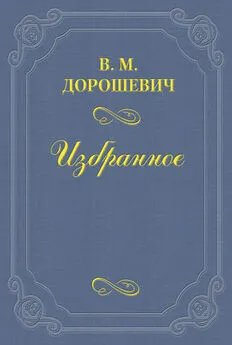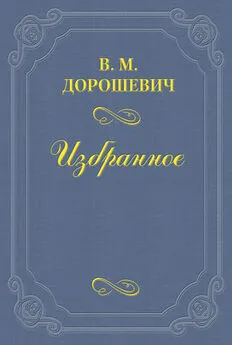Лев Халиф - ЦДЛ
- Название:ЦДЛ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-06632-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Халиф - ЦДЛ краткое содержание
ЦДЛ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И я живо себе представил: где-то в степях Украины стоит гигантская гранитная колымага. А вокруг круглосуточно гремит его песенка. И счастливые туристы спешат, бросив свои города и веси, страны и континенты, загоняя уже наполовину сдохших лошадей оседланного ими транспорта, стремятся увидеть воочию все четыре колеса этой небывалой творческой удачи.
Три Пегаса, запряженные в пулеметную тачанку. Вот уже полсотни лет везут они своего певца. Написавшего свою лебединую песню еще в молодости. Такой езде позавидовал бы сам Гоголь! Не он, а стареющий Миша гоголем мчится на птице-тройке. «И летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства… Какой русский не любит быстрой езды?!»
Из-за боязни упасть с этой чудо-тройки автор единственной песни ни грамма спиртного не пьет в ЦДЛ.
Но пил здесь и за него, и за себя, и за многих других – другой Михаил – Светлов. Так и не попавший в свою Гренаду (все пишут до горизонта. А ты, босяк, пиши за горизонт!).
Он же – цэдээловский «крокодил», который в отличие от журнала был зубаст и острил без цензуры.
Добряк-бичеватель… Даже внешне чем-то схожий с Вольтером. Полумесяц лица – нос и подбородок, бегущие навстречу друг другу… И прорезь рта – копилкою острот.
Он шутил, даже умирая: «Ты знаешь, босяк, что это за аллея? Это Моргенштрассе. В конце ее – морг. Кстати, принеси мне пива. Рак у меня уже есть. И вообще, выньте, Яша, хер из зада, я же не Шахерезада».
А его светлость граф Толстой, который Алеша. Он же гражданин (когда надо) – как пил!
Однажды в Ташкенте, выйдя из дому, я увидел, как имя его приколачивают к фасаду нашей улицы. Правда, ее по-прежнему звали Почтовой. Почему утолстили именно нашу улицу? Наверно, все остальные были уже переименованы.
Но в Ташкенте все же жил Алексей Толстой. Во время войны. Жил широко в голодно жмущемся к базарам городе.
Как-то он устроил скандал местному начальству, не снабдившему его вовремя сливочным маслом. Здесь его почитали как лозунг – «Все для фронта, все для победы!»
В отличие от Льва Николаевича, вегетарианца, этот Толстой едва ли постился.
Из всего написанного им и о нем я вижу только картину Кончаловского, написавшего его завтракающим.
Случилось так, что знаменитый натюрморт, пылающий красными окороками, ожил воочию в наиголоднейшее мое время.
Несколько мальчишек – мы пришли тогда к Толстому то ли просить его выступить у нас в школе, то ли сами почитать ему свои стихи.
Старинный особняк. Дверь с медной дощечкой. Замысловатой вязью выведено: «Гр. Толстой».
Почтенный старик с пышными бакенбардами и в ливрее. Справившись – кто мы? – проводил нас в гостиную. И сказал, что его светлость граф изволит завтракать.
Кто-то из нас поправил надменного старика – «Не граф, а гражданин!». Почтенный вспыхнул и, чеканя каждое слово, едва сдерживаясь, произнес: «Кому гражданин, а кому – его светлость граф».
Появился сам хозяин. Широким жестом пригласил в столовую. Велел принести приборы. И пододвинул каждому из нас по хрустящей белоснежной салфетке.
Стол не умещался в узкое отверстие зрачка. Громоздясь невиданной, разве что с картин фламандцев сошедшей сытостью. И это посреди голода… Гастрономы военного времени, с забитыми фанерой витринами. С давкой за поджаренными воробьями. Могли ли они идти в сравнение с толстовским завтраком?! Копченое мясо, только-только снятое с крюков, лесным костром попахивающее… Гуси-лебеди подбоем своих крыльев стыдливо прикрывали свое фарфоровое ложе. Даже селедка и та, как фараон, лежала запеленутой в своем хрустальном саркофаге. Сиги и влажная от томления осетрина… будто дышат ржавые с дымком бока… Где-то на самом краю стола возвышалась церквушка русского самовара. Ее золоченый бок смешно вытягивал наши лица. И без того нелепые на этом пиру…
…Острый нож в руках Толстого запотевал, погружаясь в душную мякоть свиного окорока. Отрезая нам сочащиеся розовые куски, он небрежно отбрасывал их на свежеподжаренный хлеб.
Плебей – пробует. Граф – ест.
Куда упирается потолок вкусовой гаммы у привыкшего есть покупные с добавлением мяса… котлетки?
Веками выверенное меню бедняка! Хлеб да каша – пища наша!
Пусти его в царство утонченных гурманов – предпочтет привычное с детства, испокон века знакомое. Только было бы хлеба поболее…
Другое дело – граф. Этот даже в стране провозглашенного равноправия должен есть по-графски. Вековая привычка. И тут уж ничего не поделаешь!
С каждым кусом толстовского бутерброда, казалось, густела кровь, притормаживаясь в аорте и венах. Пока липким сиропом не застревала в маленьких тупичках капилляров.
Горящие глаза растапливали щеки. Ощутимо теплели скулы… Красные капельки кетовой икры взрывались во рту… Не всплывшие косяки – жертвы человеческого нетерпения…
Бочонки американского хлеба. Он поднимался из вспоротой жести, ноздреватой мякотью освобождаясь от сжатия.
Ароматы заокеанских пекарен! Как мало напоминал он наш – мокрый от недопека, колючий от мякины, замешанный, как саман, ногами, крохами выдаваемый по карточкам – хлеб!
Однажды на банкете в Кремле А. Толстой доверительно рассказывал Сталину про парижскую жизнь. «Гастрономия – французское слово… Ну а девочки… Если б вы знали – какие там девочки!..» Но, спохватившись, вдруг испугался и на всякий случай понес белоэмиграцию за ее упадничество и продажность. Но и после этого испуг не прошел. Напротив, усилился. И тогда он хлопнулся оземь бесчувственно пьяным.
«Увезите домой этого милейшего человека! – сказал Сталин тут же подскочившим охранникам… – И, ради бога, не уроните его по дороге…» Но едва его те водворили на сиденье тотчас подкатившего автомобиля – мгновенно очнулся. Пригладил свои редеющие волосы. И, улыбнувшись шоферу, сказал: «Ничего, дома доужинаю».
– Хотите, расскажу вам новый анекдот? Вчера придумал. И, не дожидаясь нашего поспешного кивка, Толстой стал рассказывать:
«Околица деревни. Тишина. Хруст снега под чьими-то ногами. Все явственней приближающиеся шаги. Стук в окошко.
– Кто там?
– Я…
– Кто ты?
– Да я, Глашка, Иванова дочь…
– Косого, что ли?
– Ага.
– Чего тебе, Глашка?
– Сито.
– А зачем тебе сито?
– Да батька в творог насрал!»
ЦДЛ… Смотрит Толстой с портрета. Что-то с трудом вспоминает. Я же много лет спустя напишу «Натюрморт»:
Лежит еще не сжеванная снедь,
Отбрасывая тень живым на радость.
Любая худоба счастливей рядом с ней
И хочет сытой энергией покраснеть
С чужими румянцами рядом.
Отбросив в пальцы дрожи жажд,
Прикрывши наготу тарелок голых —
Творит художник непочатый жанр,
Рисуя первозданный голод.
И не традиционные провалы щек
Слабеющей выводит кистью —
Он, не обедавший еще,
Рисует гимн костей,
С которых каплет мясо,
И глухарей с кроваво-красной рясой,
Салатов пёстрые ковры,
Хрустящие подглазья рыб,
Капканы блюд с примерзшей в сале птицей,
Салфеток накрахмаленную зыбь,
Глотков протяжный звук…
Еды неотвратимый принцип
Шевелит сны у самых его рук.
Палящих глаз протяжный жар,
Подернутый дымком чужих бифштексов,
Ожогом губ – котлет горячих ржавь,
Голодных утр пустынное нашествие…
О, бездонное небо несжаренных птиц,
О, всех океанов несваренная уха,
Неуемная жажда пить,
Не умеющая стихать,
Ваши краски познали крик,
Пропахшие рукой —
Познали свежесть…
Шрапнелью рыбьей позолоченной икры
Капельки утра брезжут.
Интервал:
Закладка: