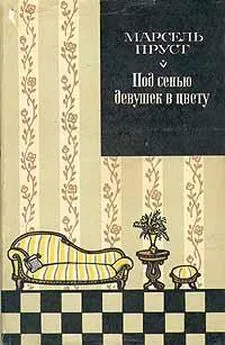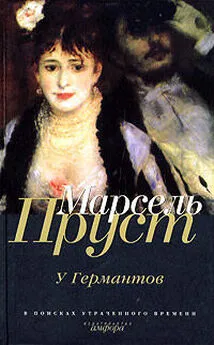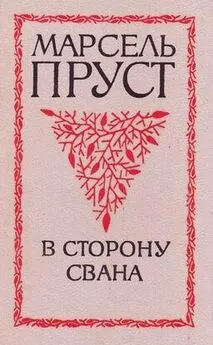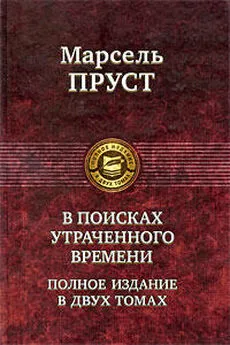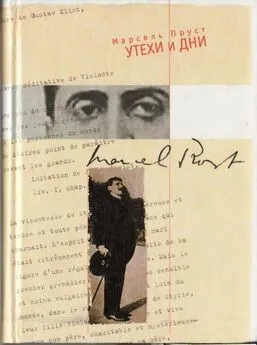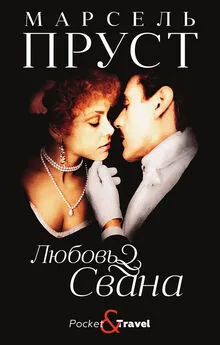Марсель Пруст - Сторона Германтов
- Название:Сторона Германтов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранка
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-389-18722-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марсель Пруст - Сторона Германтов краткое содержание
Читателю предстоит оценить блистательный перевод Елены Баевской, который опровергает печально устоявшееся мнение о том, что Пруст — почтенный, интеллектуальный, но скучный автор.
Сторона Германтов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Ну конечно! Среда вообще не имеет значения!
И так энергично, словно боялся, что я перебью или не пойму, добавил:
— Настоящее влияние оказывает интеллектуальная среда! Человек таков, каковы его убеждения!
На мгновение он замолчал, улыбнулся с таким видом, будто хорошо все обдумал, уронил монокль и, буравя меня взглядом, с вызывающим видом изрек:
— Все люди одинаковых убеждений похожи.
Он явно совершенно не помнил, что несколько дней тому назад услышал от меня же эти слова, хотя сами слова, наоборот, запомнил прекрасно.
Не всегда я приходил в ресторан к Сен-Лу в одном и том же настроении. Какое-нибудь воспоминание или горе могут так далеко от нас отодвинуться, что мы их больше не замечаем, но они возвращаются, причем бывает, что надолго. В иные вечера, идя по городу в ресторан, я так изнывал без герцогини Германтской, что едва мог дышать: казалось, что искусный анатом разрезал мне грудь, удалил кусок плоти и заменил таким же по размеру куском бесплотного страдания, равной долей ностальгии и любви. И даром, что разрез потом зашили аккуратными стежками, трудно живется тому, у кого вместо органов сидят внутри сожаления о другом человеке: в груди от них как будто все время тесно, и потом, какое странное ощущение, когда постоянно приходится думать о части собственного тела! Кажется все-таки, что заслуживаешь большего. При малейшем ветерке вздыхаешь не только от стеснения в груди, но и от тоски. Я смотрел на небо. Если там было ясно, я говорил себе: «Может быть, она за городом, смотрит на эти же звезды, и кто знает, а вдруг, когда я приду в ресторан, Робер мне скажет: „Хорошая новость! Я получил письмо от тети, она хочет тебя видеть, она едет сюда“». Мысли о герцогине Германтской я обнаруживал не только на небе. Каждый порыв ласкового ветерка словно приносил мне весть о ней, как когда-то весть о Жильберте на нивах Мезеглиза: мы не меняемся — в чувство, которое питаем к какому-нибудь человеку, мы переносим множество дремлющих чувств поменьше, которые этот человек в нас пробудил, хотя к нему они не имеют отношения. А потом что-то в нас заставляет как-то оправдать эти отдельные чувства, приобщить их к чувству более всеобъемлющему, общему для всего человечества: ведь отдельные люди и страдания, которые они нам причиняют, для нас лишь один из поводов вступить в отношения с человечеством. К моему горю примешивалось какое-то удовольствие именно потому, что я знал: оно — частичка всемирной любви. Иной раз мне казалось, что я узнаю горести, которые принесла мне когда-то Жильберта, узнаю печаль, нападавшую на меня по вечерам в Комбре, после того как мама уходила из комнаты, а порой мне вспоминались некоторые страницы Берготта, и, пожалуй, все эти муки не имели прямого отношения к герцогине Германтской, к ее холодности, к ее отсутствию, не были связаны с ней, как причина со следствием в уме ученого, но я и мысли не допускал, что герцогиня тут ни при чем. Ведь бывает же неопределенная физическая боль, иррадиирующая из больного органа в другие места, но стоит доктору нажать на нужную точку, как боль прекращается и проходит без следа. А сперва то, что боль ширится, растет, придавало ей какую-то роковую неизбежность, мы были не в состоянии понять, почему нам больно, и даже объяснить, где болит, и воображали, что излечиться от нее невозможно. Шагая к ресторану, я говорил себе: «Вот уже две недели я не видел герцогини Германтской». Две недели — казалось бы, ничего страшного, но дело-то было в герцогине Германтской, и я считал каждую минуту, и мне это было невыносимо. Причем не только звезды, не только ветерок, а даже сами эти арифметические подсчеты были для меня исполнены муки и поэзии. Каждый день теперь был словно подвижная вершина колеблющегося под ногами холма: я чувствовал, что с одной его стороны я могу спуститься к забвению, а с другой — ринуться навстречу жажде увидеть герцогиню. И я колебался то в одну, то в другую сторону, не в силах обрести устойчивое равновесие. Как-то раз я сказал себе: «Сегодня вечером наверно придет письмо», а за обедом набрался храбрости и спросил у Сен-Лу:
— Не получил ли ты известия из Парижа?
— Получил, — хмуро ответил он, — причем дурное.
Я перевел дух: ясно было, что горе именно у него и что известие от его возлюбленной. Но вскоре я понял, что одним из его последствий будет то, что Робер еще долго не сможет ввести меня к своей тетке.
Я узнал, что между ним и его возлюбленной вышла размолвка, не то по переписке, не то она как-то утром приехала, чтобы увидеться с ним между двумя поездами. А до сих пор все ссоры между ними, даже не такие крупные, всегда казались окончательными. Его подруга вечно была в дурном настроении, топала ногами, рыдала ни с того ни с сего, как дети, которые вдруг запираются в темном чулане, не идут обедать, ничего не желают объяснять, а если, исчерпав все аргументы, им дают оплеуху, рыдания только усиливаются. Сен-Лу жестоко страдал от этой ссоры, хотя сказать «жестоко страдал» было бы упрощением: эти слова не давали ни малейшего представления о том, как ему было больно. Потом он оказался один, и ему не оставалось ничего другого, как только думать об уехавшей подруге (которая перед отъездом с уважением отметила, до чего он энергичен), и тут тревоги, терзавшие его в первые часы, постепенно отступили перед непоправимой очевидностью, а когда тревоги прекращаются, испытываешь такое облегчение, что в самой несомненности ссоры открылось ему какое-то очарование, словно это была не ссора, а примирение. Немного погодя он снова начал страдать, теперь уже от неожиданной и непредвиденной боли, которую причинял себе, размышляя о том, что она, возможно, вовсе не хотела разрыва и даже ждет, чтобы он сделал первый шаг; а пока они в ссоре, она из мести может в любой вечер где-нибудь что-нибудь этакое учинить, но ему стоит только телеграфировать ей, что он едет, и тогда она ничего такого не учинит; и ведь может быть, тем, что он зря теряет время, воспользуются другие, и через несколько дней мчаться к ней будет уже бесполезно: она найдет себе другого. Все это было возможно, но он ничего не знал, подруга молчала, и в конце концов он настолько обезумел от горя, что допускал что угодно — что она прячется где-то в Донсьере или уехала в Индию.
Всем известно, что молчание — сила; но, с другой стороны, это сильное оружие в руках у тех, кого мы любим. Она усиливает тревогу того, кто ждет. Ничто не подхлестывает нашего желания увидеть любимое существо больше, чем преграды, а какая преграда непреодолимее молчания? Известно также, что молчание — пытка; оно способно свести с ума узника в тюрьме. Но в сто раз худшая пытка, чем молчать самим, — это мука выносить молчание тех, кого мы любим! Робер все время бился над вопросами: «Чем же она так занята, что молчит? Наверно, изменяет мне с другими?» А еще он думал: «Что же я ей сделал, чтобы она так молчала? Может, она меня ненавидит, и это уже навсегда». Так, терзаемый ревностью и раскаянием, он в самом деле сходил с ума от ее молчания. Кстати, этот вид молчания не только мучительнее тюрьмы, он и есть тюрьма. Да, бесплотная, но непреодолимая стена, заслон из пустого воздуха, непроницаемого для взгляда покинутого. И какой оптический инструмент чудовищнее молчания, являющего нам не одну исчезнувшую, а тысячу, и каждая из них предает нас по-своему? Иногда Роберу вдруг становилось легче, и он надеялся, что молчание вот-вот прервется, что придет долгожданное письмо. Он его видел, оно уже было здесь, он прислушивался к каждому шороху, он оживал, он бормотал: «Письмо! Письмо!» Ему уже мерещился вдали на мгновенье воображаемый оазис нежности, но потом он снова брел по реальной и бесконечной пустыне молчания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: