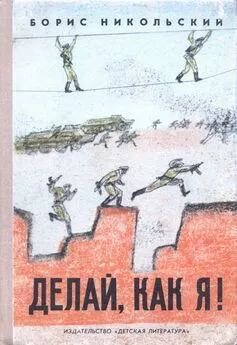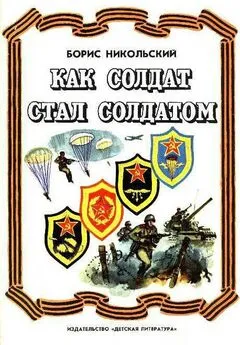Борис Никольский - Формула памяти
- Название:Формула памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Никольский - Формула памяти краткое содержание
В книгу вошли также повести, посвященные будням современной Советской Армии.
Формула памяти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— …вы понимаете меня, Иван Дмитриевич? Вы улавливаете мою мысль? Историки восстановят ход истории, и события военного времени, и всякие прочие события детально опишут, и наши поражения и победы… А как же вот с этой мелочью, с пустячком этим, с конем пластилиновым быть? А, Иван Дмитриевич? Я это в переносном, в символическом, разумеется, смысле. Но — как? Неужели он так со мной, сын мой, и уйдет, исчезнет, и всё — будто и не было? Страданий наших, мук, горя и радости — ничего не было?..
…Он шел, похрустывая новенькой формой, поигрывая в кармане галифе пистолетом (кобуру еще не выдали). Кто надоумил его, кто научил его сунуть пистолет именно в карман, кто сказал, что так будет надежнее? Он шел, совсем по-мальчишески наслаждаясь ощущением его холодной, гладкой тяжести. Он шел, чтобы показаться матери в этом новом своем качестве, шел, чтобы проститься, он не думал в тот момент, что прощаться, может быть, придется навсегда.
То, что произошло дальше, было так нелепо и дико, что он даже не сразу поверил в случившееся. Раздался выстрел, обжигающим ветром опалило ногу, и он ощутил боль. Оказывается, играя в кармане пистолетом, он незаметно сдвинул предохранитель.
У него оказалась прострелена ступня. Торопливо стянув сапог и даже увидев уже скупо проступающую кровь, он еще не мог осознать все ужасающие размеры свалившегося на него несчастья…
— …значит, вы не хотите мне помочь, Иван Дмитриевич? Не хотите? Или не можете? — Странный старик в чесучовом костюме сразу как-то обмяк, съежился, утратил свою воинственную говорливость. — Не можете…
Архипов медленно покачал головой. И правда — что мог сказать он этому человеку? Что мог ответить? Разве его самого не мучили те же самые мысли?
…Митю судили судом военного трибунала — за самострел. Что пережил он тогда, что перечувствовал! От одной мысли об этом у Архипова до сих пор сжималось, каменело сердце. В то жестокое, суровое время существовало единственное наказание за самострел, единственная расплата — высшая мера. Но, видно, те, кто судил Митю, угадали в нем натуру честную и чистую, неспособную на сознательное преступление. Высшая мера была заменена на штрафной батальон. Уже оттуда, из штрафного батальона, Архипов получил письмо от сына. «У меня один путь, — писал Митя. — Кровью своей доказать свою невиновность. Я счастлив, что мне предоставлена такая возможность». Ответное письмо Архипова Митя уже не получил. Он погиб в первом же бою, в первой же атаке…
Архипов молчал, глядя в окно. За окном шумел дождь, по стеклу, словно помехи по экрану телевизора, бежала вода.
Он хотел было сказать нечто утешительное в том смысле, что, мол, природа сама мудро заботится о стариках: память с годами тускнеет, меркнет, и воспоминания уже не причиняют той острой боли, которую причиняли прежде. Он намеревался сказать что-то в этом роде, но только тут спохватился, подумал о том, что странный его собеседник так и не представился ему. Что он за человек? Кто, откуда? Архипов повернулся было к нему, но в кресле никого уже не было…
А в кабинет уверенно входил новый посетитель — весьма известный актер, которого Архипов хорошо знал по спектаклям и телепостановкам и который теперь жаловался на расстройство памяти…
«…Потенциальная информация для множества форм поведения данного организма закодирована линейной последовательностью оснований в молекулах ДНК, хотя первоначальными стимулами для активации определенных участков ДНК служат события, происходящие во внутренней или внешней среде. При этом активируются участки, ответственные за синтез тех РНК, белков и липидов, которые нужны для клеточных функций, лежащих в основе поведения.
Таким образом, молекулы ДНК являются н о с и т е л я м и п о т е н ц и а л ь н о г о к о д а п а м я т и, а синаптические соединения и внесинаптические связи — н о с и т е л я м и р е а л и з о в а н н о г о к о д а п а м я т и. Следовательно, память надо рассматривать как способность мозга в целом как единой системы.
Из всего сказанного следует вывод, что организм содержит в молекулах своей ДНК все потенции, необходимые для научения и других психических процессов, а внешняя среда обусловливает лишь проявление этих потенций. Таким образом, в результатах научения фактически нет ничего нового! Это просто реализация чего-то такого, что существовало в потенциальной форме с самого момента зачатия».
Очень интересно! Тоже есть над чем задуматься. Если все вышесказанное перевести на обыденный язык, то это означает старую истину: «Выше своей головы не прыгнешь». И все-таки трудно согласиться с тем, что все твои возможности, все, что ты в силах достигнуть, уже предопределено, запрограммировано заранее. И чего не дано — того не дано. Как говорится, «сие от нас не зависит».
Хотя, впрочем, стоит ли так уж преувеличивать значение данного обстоятельства? Если учесть бесконечное разнообразие потенциальных возможностей, закодированных в молекулах ДНК, то поле выбора, лежащее перед нами, окажется бескрайним. Так мне думается. Результаты реализации этих возможностей под влиянием внешних и внутренних факторов могут быть совершенно различны, даже прямо противоположны. Иначе говоря, представим себе на минуту некий автомат с большим количеством кнопок, нажимая на которые в различном их сочетании мы можем вызывать к жизни самые разнообразные свойства, заложенные в программе этого автомата. Выходит, примерно так же обстоит дело и с нашим организмом. Занятно!
И — следовательно — сколько же возможностей так и остаются неосуществленными! О скольких своих возможностях мы, наверно, даже и не подозреваем!.. Я очень отчетливо чувствую это по себе.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
В тот самый момент, когда Архипов беседовал со странным стариком в чесучовом костюме, Анатолий Борисович Перфильев переступил порог кабинета Якова Прокофьевича Зеленина, заведующего отделом городского комитета партии.
Перфильев помнил Зеленина еще по университету. Они занимались тогда в лыжной секции, в спортклубе, и это их давнее, хотя и не очень близкое знакомство накладывало свой отпечаток на их нынешние отношения. Впрочем, теперь отношения эти носили совершенно официальный характер, и обращались Перфильев и Зеленин друг к другу на «вы», по имени-отчеству, и, обсуждая институтские дела или же встречаясь на различного рода конференциях и заседаниях, они никогда ни словом не касались своего общего университетского прошлого, словно его и не было вовсе, словно они условились однажды не вспоминать о нем. И, глядя на них со стороны, никто бы не догадался, что когда-то они вместе бегали лыжные кроссы, вместе работали на студенческой стройке и даже жили некоторое время в одной палатке. И все же всякий раз, встречаясь с Зелениным, Перфильев улавливал в самой глубине его глаз то особое выражение расположенности, интереса и веселой симпатии, с каким смотрят друг на друга лишь давние товарищи, не утратившие памяти о студенческом братстве. Как-никак, а у них не было необходимости оценивающе приглядываться друг к другу. Они обладали умением понимать один другого с полуслова, с полунамека, по выражению лица, по улыбке — между ними, помимо официального, служебного разговора, как бы завязывался еще один — неуловимый, неслышимый для посторонних. Как будто возникало между ними особое поле взаимного притяжения и доверия, истоки которого скрывались еще там, в университетских днях. Так, во всяком случае, казалось Перфильеву. Такое было у него ощущение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
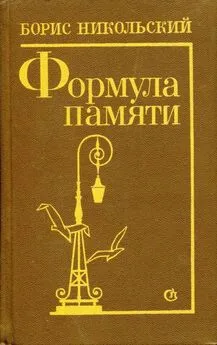

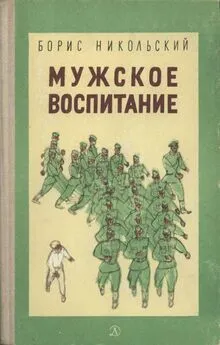
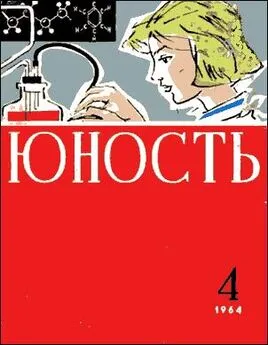
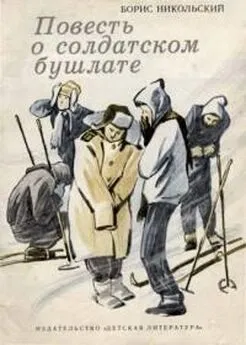
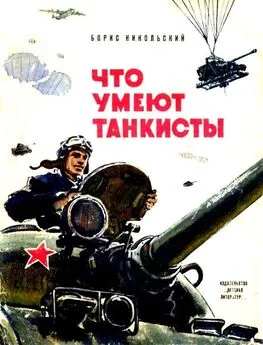
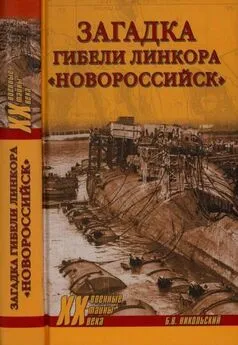
![Борис Никольский - Пароль XX века [Рассказы]](/books/1093023/boris-nikolskij-parol-xx-veka-rasskazy.webp)