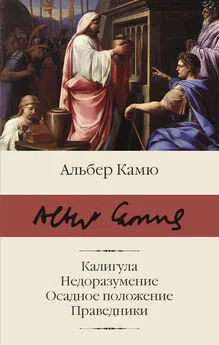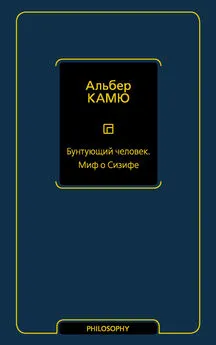Альбер Камю - Бунтующий человек. Недоразумение [сборник]
- Название:Бунтующий человек. Недоразумение [сборник]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ФТМ, АСТ
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-090531-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альбер Камю - Бунтующий человек. Недоразумение [сборник] краткое содержание
Что может объединять эссе, написанное на стыке литературоведения и философии, и пьесу, являющуюся современной трагедией рока?
Одна из главных идей Камю, положенная им в основу его писательской и философской экзистенциалистской концепции, — идея бунта. Бунта, пусть трижды обреченного на неудачу, но побуждающего человека, который желает сам управлять своей судьбой, на борьбу против законов общества.
Осмысленная жизнь, по Камю, невозможна без борьбы, как невозможна борьба без воли к свободе, снова и снова ставящей перед нами «проклятые» вопросы бытия.
Бунтующий человек. Недоразумение [сборник] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Следовательно, наступление золотого века, перенесенного на конец истории и в силу двойной привлекательности совпадающего с апокалипсисом, оправдывает все. Необходимо учесть колоссальные амбиции марксизма и дать оценку масштабу его проповеди, чтобы понять: подобная надежда пренебрегает проблемами, которые в ее свете представляются второстепенными. «Коммунизм как… подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека; а потому как полное, происходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства достигнутого развития возвращение человека к самому себе как человеку общественному, т. е. человечному. Такой коммунизм, как завершенный натурализм, равен гуманизму… он есть подлинное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком… между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он — решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение». Это псевдонаучный язык. А по существу, в чем отличие вышеизложенного от мечтаний Фурье, пророчившего о «плодоносных пустынях, опресненных морях, чья вода отдает фиалками, о вечной весне»? О вечной весне человечества нам сообщают на языке энциклики. Чего может желать и на что может надеяться человек, лишенный Бога, если не на царство человеческое? Этим объясняется экстаз учеников. «В обществе без страха легко не думать о смерти», — заявляет один из них. Между тем — и в этом настоящее проклятие нашего общества, — страх смерти — это роскошь, гораздо ближе знакомая человеку праздному, нежели труженику, задавленному работой. Но любой социализм утопичен, и прежде всего научный. Утопия ставит на место Бога будущее. Она отождествляет будущее и мораль; единственной ценностью является то, что служит будущему. Вот почему она всегда основана на принуждении и авторитаризме [78] * Морелли, Бабёф и Годкин на самом деле описывают общества инквизиции.
. Маркс как утопист ничем не отличается от своих чудовищных предшественников, а частью своего учения оправдывает своих последователей.
Разумеется, правы те комментаторы, которые подчеркивают этическую взыскательность, лежащую в основе марксизма [79] Maximilien Rubel . Pages choisies pour une éthique socialiste. Rivière.
. Прежде чем перейти к вопросу о поражении марксизма, отметим, что именно она и составляет подлинное величие Маркса. Он поставил в центр своих рассуждений труд, его несправедливое угнетение и его глубокое достоинство. Он восстал против низведения труда до товара, а труженика — до объекта. Он напомнил привилегированным слоям, что их привилегии не даны им Богом, а собственность не является вечным правом. Он заставил мучиться угрызениями совести тех, кто, по его мнению, не имел права на мир в душе, и с невиданной глубиной разоблачил класс, преступление которого состояло не в том, что он захватил власть, а в том, что он использовал ее для создания общества пошлости, лишенного всякого благородства. Мы обязаны ему идеей, погрузившей нас, сегодняшних, в безнадежность — хотя эта безнадежность стоит дороже любой надежды, — о том, что труд, лишенный всяких прав, — это не жизнь, хотя он занимает все время жизни. Кто еще, несмотря на претензии нашего общества, способен спокойно спать, зная, что его пошлые удовольствия куплены ценой труда миллионов мертвых душ? Требуя для работника богатства, состоящего не в деньгах, а в досуге и творчестве, он, вопреки видимости, выступал за улучшение качества человеческой жизни. Он не желал — и мы на этом настаиваем, — чтобы от его имени бесконечно унижали человека. Одно-единственное его высказывание, в кои-то веки ясное и четкое, навсегда лишает его победивших учеников величия и человечности, свойственных ему: «Цель, нуждающуюся в неправедных средствах, нельзя считать праведной целью».
Здесь мы снова сталкиваемся с трагедией Ницше. Амбиции и пророчества благородны и универсальны. Но ограничительный характер учения и сведение всякой ценности к исторической сделали возможными самые экстремальные последствия. Маркс хотя бы верил, что конечные цели истории высокоморальны и рациональны. В этом и заключается его утопизм. Но утопия — и ему это было прекрасно известно — обречена обслуживать цинизм, неприемлемый для Маркса. Он разрушил всякую трансцендентность, а затем совершил переход от фактического к должному. Но долг всегда берет начало в факте. Требование справедливости приводит к несправедливости, если под ним не лежит этическое оправдание справедливости. А если этого нет, то однажды долгом станет преступление. Если добро и зло слиты во времени и неотличимы от событий, то больше нет хороших и дурных поступков, есть лишь поступки преждевременные или запоздалые. Кто, как не оппортунист, станет судить о своевременности того или иного поступка? Потом, утверждали ученики Маркса, вы станете судьями. Но жертвы не могут стать судьями — их больше нет в живых. Для жертвы единственной ценностью является настоящее, а единственным действием — бунт. Мессианизм просто обязан восставать против жертв. Возможно, Маркс этого и не желал, но мы должны рассмотреть вопрос о его ответственности за то, что он во имя революции оправдал кровавую борьбу против всех форм бунта.
Крах пророчества
Гегель гордо возвестил конец истории в 1807 году, сенсимонисты назвали революционные потрясения 1830 и 1848 годов последними. Конт умер в 1857-м, готовясь нести с кафедры человечеству, очнувшемуся наконец от заблуждений, позитивизм. В свою очередь, Маркс все с тем же слепым романтизмом проповедовал бесклассовое общество и разрешение исторической тайны. Впрочем, точной даты он, как человек более осторожный, не назначил. К сожалению, его пророчество описывало также ход истории вплоть до часа утоления всех желаний и сообщало тенденцию развития событий. Правда, события и факты забыли подстроиться под его теоретические выкладки, поэтому пришлось втискивать их туда силой. Но главная проблема в другом. Если пророчества выражают живые надежды миллионов людей, они не могут безнаказанно откладываться до бесконечности. Наступает срок, когда разочарование превращает терпеливую надежду в негодование, а та же цель, провозглашаемая с яростным упорством, требует достижения в еще более жесткой форме и ищет для этого иных путей.
В конце XIX — начале ХХ века революционное движение жило подобно первохристианам в ожидании конца света и Второго Пришествия пролетарского Христа. Известно, насколько в общинах первохристиан было сильно это чувство. Еще в конце IV века епископ римской провинции Африка высчитал, что миру осталось жить сто один год. По окончании этого срока наступит царство Божие, и надо успеть его заслужить. В I веке н. э. [80] О неминуемости этого события см.: Мк. 39:8, 30:13; Мф. 23:10, 27:12, 34:24; Лк. 26:9–27, 22:21 и т. д.
этим чувством были охвачены все поголовно, что объясняет безразличие первохристиан к чисто богословским вопросам. Если Второе Пришествие близко, значит, надо думать не об изучении источников и не о догмах, а о том, как не утратить пыла веры. Вплоть до Климента и Тертуллиана, то есть на протяжении более ста лет, христианская литература игнорировала проблемы теологии и мало интересовалась Писанием. Но если Второе Пришествие откладывается, значит, надо жить дальше, руководствуясь наставлениями в вере. Так появляются молитвенные книги и катехизис. Евангельское Второе Пришествие отодвинулось на неопределенный срок, зато пришел апостол Павел, который дал верующим догму. Церковь облекла в плоть ту веру, что представляла собой чистое стремление к грядущему царству небесному. За какой-нибудь век пришлось организовать все, включая даже мученичество, свидетелями которого в миру станут монастырские ордена, и даже проповедь, которая впоследствии станет рядиться в платье инквизиции.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Альбер Камю - Бунтующий человек. Недоразумение [сборник]](/books/1100727/alber-kamyu-buntuyuchij-chelovek-nedorazumenie-sbor.webp)

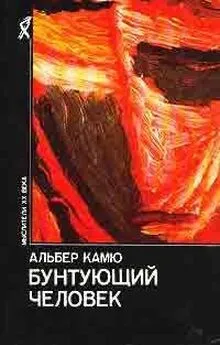
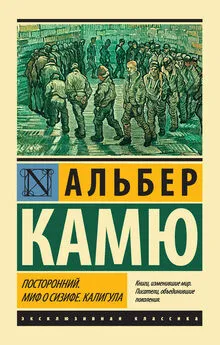
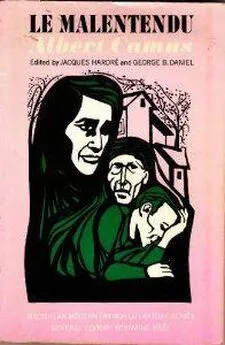
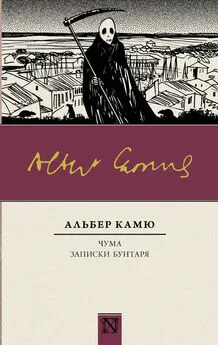
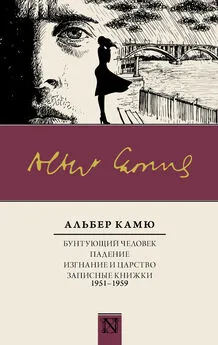
![Альбер Камю - Калигула. Недоразумение. Осадное положение. Праведники [litres]](/books/1148759/alber-kamyu-kaligula-nedorazumenie-osadnoe-polozh.webp)