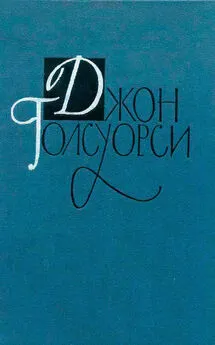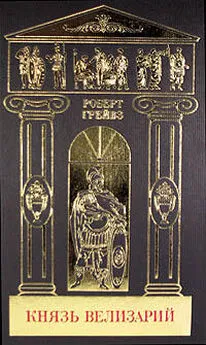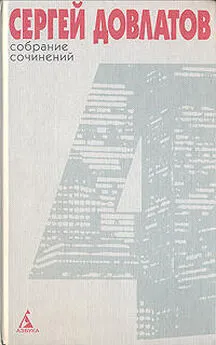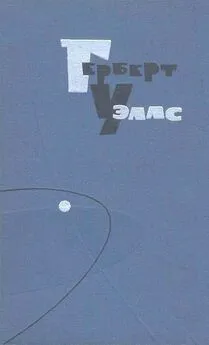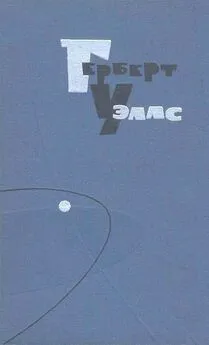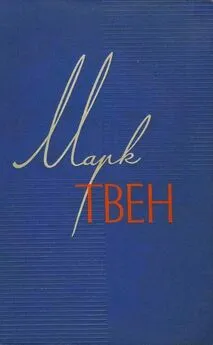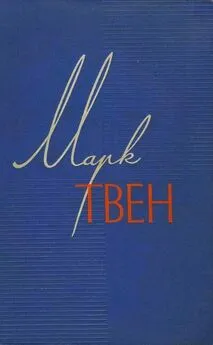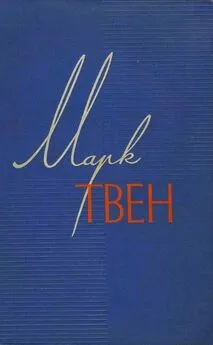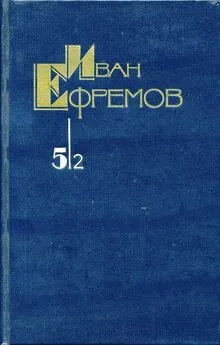Джон Голсуорси - Джон Голсуорси. Собрание сочинений в 16 томах. Том 11
- Название:Джон Голсуорси. Собрание сочинений в 16 томах. Том 11
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1962
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джон Голсуорси - Джон Голсуорси. Собрание сочинений в 16 томах. Том 11 краткое содержание
Джон Голсуорси. Собрание сочинений в 16 томах. Том 11 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Именно поэтому он останется в анналах отечественной истории как типичный представитель той невозвратимой золотой поры, когда людям казалось, что надо жить ради самой жизни, не заботясь о ее смысле и не особенно задумываясь о том, что всему приходит конец. Было что-то классическое, размеренное и спокойное в его шествовании через годы, как будто его крестной матерью была сама Гармония. И хотя он исправно молился и посещал церковь, его никак нельзя было назвать верующим в современном смысле этого слова: религиозные представления его формировались в ту пору, когда на «религию» еще не обрушились удары, и она полновластно царила в умах нации, дремлющих и бесчувственных, а когда религия, потрясенная до самых основ, начала умирать, и люди вокруг него стали настолько религиозными, что отреклись от догм, которые их больше не удовлетворяли, он был уже слишком стар, чтобы менять свои привычки и отвергать формальную сторону веры, которая в общем-то никогда не была его насущной потребностью. В сущности, он ведь был язычником: для него все в мире было благом. Любовь для него воплощалась в Природе, а чудеса — в Великой Звездной Системе, которую он ощущал во всем. Это и было его Божеством. Он глубже всего постигал божественный порядок именно тогда, когда в одиночестве глядел на звезды. Подняв взор к этим своим холодным мерцающим друзьям, он, казалось, испытывал благоговейный трепет, какой никогда не вызывали в нем люди со своими верованиями. Красота ночи, ее черная бездонность и бесчисленные сверкающие миры волновали его до глубины души, и он подолгу стоял молча, иногда лишь произнося задумчиво: «До чего ж мы ничтожны! Крохотные жалкие существа!» Да, в такие минуты он действительно совершал обряд поклонения великим загадкам Вечности. Никто не слышал, чтобы он сколько-нибудь убежденно говорил о потусторонней жизни. Он привык полагаться на себя и потому не принимал на веру то, что говорили Другие, прислушиваясь лишь к своему внутреннему голосу, который далеко не всегда звучал уверенно. По мере того как он старился, скептицизм по отношению ко всяким высоким материям становился неотъемлемой частью его истинной религии. Думаю, что он считал неоправданной дерзостью делать вид, будто он постиг то, что несравненно грандиознее его самого. Но ни его формальная вера, ни то благоговейное неведение, которое было его истинной религией, никогда не доставляли ему хлопот: они смирно шли рядком в одной упряжке, погоняемые высшей силой — его бесконечным преклонением перед Жизнью. Он питал глубокое отвращение к фанатизму и в этом смысле отражал дух той величавой, тихоструйной реки — Викторианской эры, которая началась, когда он достиг совершеннолетия. И все же, заведя в его присутствии разговор о высоких или абстрактных понятиях, нельзя было игнорировать его критические суждения, в которых содержались порой удивительно меткие выводы, подкрепленные неумолимой логикой этого человека, не склонного особенно интересоваться иными мирами или вступать в спор. Он был истинным сыном своего времени на грани двух веков: века минувшего, с его некогда непоколебимой, а ныне отживающей верой в авторитеты, и века грядущего, века новой, уже рожденной, но не окрепшей пока веры. Все еще оставаясь под сенью старого, подгнившего и готового упасть дерева, он, пожалуй, не сознавал вполне — хотя, наверное, смутно чувствовал, — что люди, подобно детям, чья мать их покинула, волей-неволей вынуждены теперь стать добрыми и доверчивыми, научиться верить себе и другим и тем самым лихорадочно, безотчетно, в силу суровой необходимости создавать новую, великую веру в Человека. Да, он был истинный сын межвременья, порождение эпохи, не знающей настоящей веры, индивидуалист до мозга костей.
Даже к последнему бедняку он относился как человек к человеку. За исключением мошенников (одно из любимых его словечек), которых он разгадывал удивительно быстро, он был готов помочь всякому, кого постигла неудача, и особенно тому, кто так или иначе был ему знаком. Однако свои благотворительные дела он старался держать в тайне, словно бы сомневался в их разумности и в целесообразности огласки; поэтому ему приходилось самому упаковывать и рассылать старую одежду, тайком раздавать небольшие суммы денег или чеки. Но в целом он считал, что «бедняков» должен опекать закон о бедных, а вовсе не отдельные граждане. То же самое с преступниками: он мог жалеть или порицать их, но ему и в голову не приходило, что общество, к которому он принадлежал точно так же, как и они, в какой-то степени несет за них ответственность. Его понятие о справедливости, как было общепринято в те времена, основывалось на убеждении, что каждый человек начинал с равными или по крайней мере с достаточно широкими возможностями и судить его должно исходя из этого. Право же, в ту пору никто не волновался из-за проблем, выходящих за пределы его круга. А в своем кругу и в домашних делах справедливее его не найти было человека на свете. Он не допускал, чтобы личные симпатии влияли на его объективность, — разве что изредка, когда этого требовали его интересы, делал исключение с очаровательной наивностью. Такая справедливость отнюдь не мешала окружающим любить его: несмотря на раздражительность — он быстро вспыхивал и так же быстро отходил, — его считали очень приятным человеком. В характере у него не было и следа суровости. Смеялся он на редкость заразительно и весело, от всей души, как ребенок.
От удачной остроты его большое, благородное, исполненное достоинства лицо преображалось поразительным образом. Оно морщилось, словно скомканное, а в глазах загорались такие огоньки, погасить которые, казалось, могли только слезы. Он восклицал: «Богатая штука!» — это было излюбленное его выражение, когда что-нибудь ему нравилось, и вообще он любил употреблять девонширские словечки, всякий раз отыскивая их в потаенных уголках памяти и со вкусом повторяя их снова и снова. Он с детства сохранил пристрастие и к разным девонширским блюдам, вроде творога со сливками и мускатным орехом или запеченного в тесте бифштекса, а одним из самых приятных его воспоминаний было то, как он, когда ехал дилижансом из Плимута в Лондон, закусывал на почтовой станции в Эксетере, пока меняли лошадей. Они проехали тогда двадцать четыре часа без остановки, по десять миль в час! Вот это езда! А какая была говядина и вишневая наливка! А старик возница, «невероятный толстяк», который правил лошадьми!
Он не был большим гурманом, но в Сити, где помещалась его контора, обедал у Роша, Пима или Берга, в этих солидных старинных заведениях, а не в современных претенциозных ресторанах. Он превосходно разбирался в еде и напитках, и, хотя сам пил крайне умеренно, в лучшие свои годы считался одним из самых тонких знатоков вина в Лондоне. Он очень любил чай и, полагая, что китайский чай пьют только люди, лишенные вкуса, признавал лишь лучшие сорта индийского и требовал, чтобы заваривали его по всем правилам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: