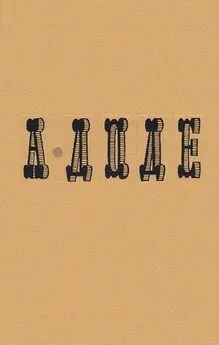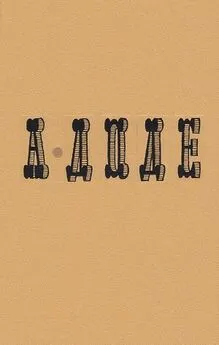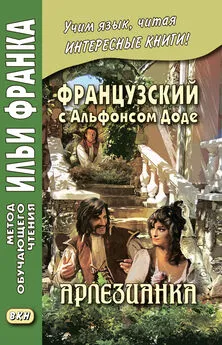Альфонс Доде - Том 6. Нума Руместан. Евангелистка
- Название:Том 6. Нума Руместан. Евангелистка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1965
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альфонс Доде - Том 6. Нума Руместан. Евангелистка краткое содержание
Том 6. Нума Руместан. Евангелистка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«И вот, господа, мы бы хотели, чтобы высокие наставления матери Баярда, дошедшие до нас на столь сладостном для нашего слуха языке средневековья, Французский университет…»
Гроза действовала ему на нервы, давила на него, сковывала все его тело, как это бывает, когда стоишь под тенью некоторых тропических деревьев. Голова кружилась, одурманенная дивным ароматом, который струили горькие цветы тюльпанного дерева, а быть может, и пышный сноп светлых кудрей, разметавшихся на кровати в соседней комнате. Несчастный министр! Тщетно цеплялся он за свою речь, взывал о помощи к рыцарю без страха и упрека, к народному просвещению, к вероисповеданиям, к шамберинекому, ректору — ничто не помогало… Он снова зашел в опочивальню Баярда, на этот раз приблизился к спящей настолько, что слышал ее легкое дыхание, и коснулся рукой опущенных полосатых занавесок, которые скрывали спящую и весь соблазн ее сна, скрывали ее перламутровое тело с розовыми тенями и изгибами, как на шаловливой сангине Фрагонара. [34] Фрагонар, Жан-Оноре (1723–1806) — французский художник, крупнейший представитель рококо в живописи, создал множество картин, изображающих галантные и любовные сцены.
Даже тут, на грани искушения, министр еще боролся и. машинально шевеля губами, бормотал высокие наставления, которые Французский университет… Но тут внезапный и уже очень близкий раскат грома разбудил певицу. Она так и подскочила на кровати.
— Ой, как я испугалась!.. Ах, это вы?
Ясные глазки пробудившегося ребенка узнали его, она улыбалась, нисколько не смущаясь беспорядком в своем туалете. Оба они замерли, опаляя друг друга безмолвным пламенем желания. И вдруг в комнате воцарилась полная темнота — ветер одну за другой закрыл высокие ставни. Слышно было, как где-то хлопнули двери, упал какой-то ключ, взвихренные жалобно свистящим шквалистым ветром, полетели по песку дорожек к порогу дома опавшие листья и сломанные цветы.
— Гроза-то какая! — тихо произнесла она и, взяв его горячую руку, почти втянула его под опущенные занавески…
«И вот, господа, высокие наставления матери Баярда, дошедшие до нас на столь сладостном для нашего слуха языке средневековья…»
В Шамбери, перед старым замком герцогов Савойских, перед изумительным амфитеатром зеленых холмов и снежных вершин, о которых вспоминал Шатобриан, глядя на Тайгетский хребет, [35] Тайгетский хребет — лесистые горы в Пелопоннесе (Греция); Шатобриаи описал его в книге «Путь, из Парижа в Иерусалим» (1811) — записках о своем путешествии 1806 года.
выступал на этот раз глава Французского университета в окружении шитых золотом мундиров, горностаевых мантий, пышных эполет, возвышаясь над огромной толпой, увлеченной силой его красноречия и жестами его могучей руки, екце сжимавшей лопаточку с ручкой из слоновой кости, — этой лопаточкой он сцементировал первые камни нового лицея…
«Мы бы хотели, чтобы Французский университет обращался к каждому из своих питомцев: „Пьер, друг мой! заказываю тебе прежде всего…“».
И когда он приводил эти трогательные слова, его рука, его голос, его плотные щеки дрожали от одного воспоминания о большой благоуханной комнате, где в смятении, вызванном той достопамятной грозой, составлена была его шамберийская речь.
XIV
ЖЕРТВЫ
Утро. Десять часов. Приемная министра народного просвещения, длинный, плохо освещенный коридор с темными обоями и дубовыми панелями, переполнена толпой просителей — одни сидят, другие топчутся на месте. Их становится с каждой минутой все больше и больше; вновь входящие протягивают свои карточки важному служителю с цепью, он берет их, осматривает и, не говоря ни слова, благоговейно кладет справа от себя на прикрытый промокательной бумагой столик, где он пишет при скудном дневном свете у окна, по которому стекают струйки мелкого октябрьского дождика.
Впрочем, некий посетитель, явившийся одним ив последних, имел честь расшевелить его величественную невозмутимость. Это плотный мужчина, загорелый, опаленный, просмоленный, с серьгами в виде двух серебряных якорьков, с голосом, как у охрипшего тюленя, — такие голоса можно часто слышать в прозрачной утренней дымке провансальских портов.
— Скажите, что пришел лоцман Кабанту. Он знает… Он меня ждет.
— Вы тут не один, — отвечает служитель, скромно улыбаясь своей шутке.
Кабанту не оценил его тонкого остроумия. Но он доверчиво смеется, растянув рот до ушей, украшенных якорьками. Работая плечами, он пробирается сквозь толпу, расступающуюся перед его мокрым зонтиком, и садится на скамье рядом с другим ожидающим, обладателем почти так же основательно выдубленной кожи.
— Эй, глянь! Да это Кабанту!.. Здорово!..
Лоцман извиняется. Он никак не может припомнить соседа.
— Да вы же меня знаете — Вальмажур… Мы познакомились там, в амфитеатре…
— А ведь и верно… Ну, парень, Париж тебя здорово изменил!
Тамбуринщик превратился в господина с длинными черными волосами, на артистический манер отброшенными назад, что при его смуглоте и иссиня-черных усиках, которые он все время крутит, делает его похожим на цыгана с ярмарки. При всем том — неизменно поднятый гребень деревенского петуха: тщеславие смазливого парня и музыканта, тщеславие, в котором переливается через край склонность к преувеличению, свойственная южанину, внешне, однако, спокойному и немногословному. Неуспех в Опере не отрезвил Вальмажура. Как все актеры, он приписывает неудачу проискам враждебной «шатни». Для него и его сестры слово это приобрело какой-то особый варварский оттенок, оно звучит как-то по-санскритски — шшаттия, словно название таинственного зверя, представляющего собой помесь очковой змеи и апокалиптического коня. Он говорит Кабанту, что через несколько дней состоится его первое выступление в большом кафешантане на бульваре — на эскетинге, во! — там он будет участвовать в живых картинах, и ему будут платить двести франков за вечер.
— Двести франков за вечер!
Глаза у лоцмана стали круглыми от изумления.
— А на улицах будут выкрикивать мою биографилью и наклеют на всех парижских стенах мой портрет в натуральную величину, в костюме трубадура былых времен, который будет на мне вечером, когда я буду выступать со своей мувыкой.
Костюмом он особенно гордится. Как жаль, что он не надел фуражку с зубцами и ботинки с длинным острым носком! Он пришел показать министру великолепный ангажемент, и на этот раз на прекрасной бумаге, которая была подписана без него. Кабанту смотрит на лист гербовой бумаги, исписанный с обеих сторон, и вздыхает.
— Тебе везет!.. А у меня вот уже больше года только одни надежды на медаль… Нума велел мне прислать бумаги, я и послал… А потом молчок — и насчет медали, и насчет бумаг, и насчет всего… Написал в морское ведомство — там обо мне ничего не знают… Написал министру — министр не ответил… А самая-то чертовина в том, что теперь я без бумаг, а у меня по поводу вождения начинается спор с капитанами судов, так они и слушать не хотят. Ну вот, раз такое дело, поставил я свою шлюпку на причал и решил: поеду-ка я к Нуме.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: