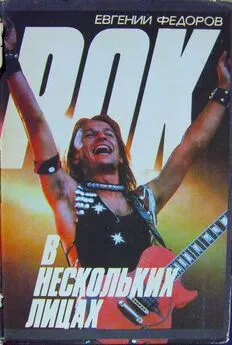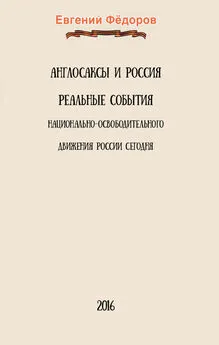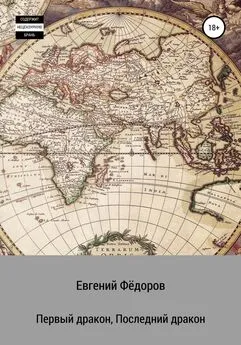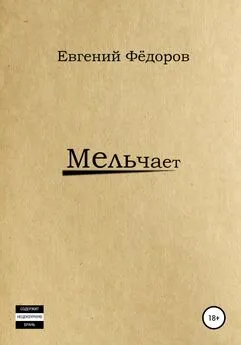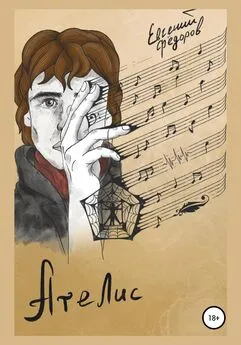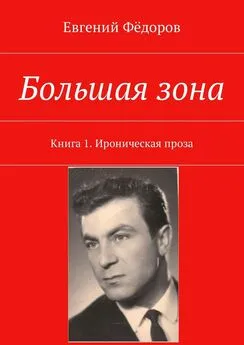Евгений Фёдоров - Жареный петух
- Название:Жареный петух
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:0101
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Фёдоров - Жареный петух краткое содержание
Жареный петух - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Читатель, прошу тишины: спокойствия, внимания.
Продолжая, забыв о философе, предназначая Хемингуэю, в сердечной простоте она искренне по гениальности пустила:
— Умру за горячую...!
О, силы небесные! Где вы? Хлестануло — убит наповал наш философ, Краснов Александр Сергеевич. Ах, если бы вы, читатель, могли видеть этот экзистенциальный, сверхисторический момент, с которого начинается лагерное существование моего замечательного друга! Ушам не верит. Поверил. Его, зайчика, скособочило всего, как если бы кто-то за здорово живешь шарахнул его по голове увесистым дрыном. Да и как было не сверзиться с вершины седьмого неба на грешную, грязную землю, когда из невинных, детских уст небесного создания, воплощавшего так полно гений чистой красоты, слетает запро.. сто эдакий смачный, кудрявый, обескураживающе-скабрезный, соленый шедеврик, спархивает и больно разит ваше не очень еще адаптированное ухо. (Гомер-Жуковский: "Странное, дочь моя, слово из уст у тебя излетело". Гомер-Губер: "Дитя мое, что за слово выбежало у тебя из-за ограды зубов?". В выразительности с Гомером только наш Пушкин может соперничать: "Какое слово ты сказала?") Вижу, как у Краснова всполошились и запорхали ресницы, как он, приснодева, сам не свой, сунул голову в плечи, напомнив видом оторопелую черепаху, прячущуюся под каменный панцирь, поддел хламиду второго срока и рубашку, стреканул тараканей рысью в барак. Антракт. Занавес. Читатель, аплодисментов не слышу.
Я, выждав приличествующую минуту, захватил монатки, побрел за убитым, осрамившимся Красновым. Он сидел бледный, как глиста в обмороке; силком выдавил улыбку.
— Бывают в жизни злые шутки,— сказал я.
— Все. Хватит. Тихо, без шухера, лебедь мой! — нервно разрядился Краснов.— Не выношу паники. Все, ясно, как солнце. Комментарии излишни, скучны.
После короткой паузы он выхлестнул тираду:
— Все же хочу проиллюстрировать на наглядном примере, что то, что мещанин называет фактом, далеко не элементарная штуковина. Видимость не всегда впору сущности. Платон считал истину, добро, красоту как бы единосущными. Поверь мне, лебедь, что это подлинный, кромешный, густопсовый романтизм. А если оформить мысль и обвинение рельефнее, точнее: грубая пенка. Наша скороспелка в пионерском галстуке лишь видится ангелом, но это отнюдь не факт, тем паче не действительность. А кажимость, видимость, дым, который рассеется, вылетит в трубу, как банкрот, труха, сон пустой. Действительность выше видимости, выше факта. Кажется, тот же Платон считал, что ухо мудрее глаза. Скажу свое мнение. Девочка с платочком на шее лишь воспринимается чудом, а на поверку: наглая, бесстыжая, аморальная тварь, клоака, рвотный порошок. Пробы негде ставить. А ты — факт, факт. Факты затемняют истину. Стоит подумать честно и серьезно, сильно, что такое факт. Да ну ее в болото! Что ты на меня вылупился? Не узнаешь?
***
Нас оставили на комендантском ОЛПе. Краснова маханули на шпалорезну. Место, я вам честно скажу, аховое. По мне бы — ад. Надо ли объяснять? Какой-то зэк обмишурился, не успел моргнуть глазом, напрочь отхватил себе пальцы рук. Маятниковая пила не шутит. Надо думать, такое от усталости, ротозейства, хронического недоедания, недосыпа, апатии, задрипанности. Не членовредительство. Злонамеренного ничего не было, и никто уголовщинки ему не паял. И до него, кто стоял на маятниковой пиле, так кончали: все. Рано или поздно. Недоброе для зэка, доходяги, место. Краснов встал на маятниковую пилу, с ходу сделался заправским, незаменимым мастером; заявил мне, что шпалорезка для него самое сподручное место, что работа посильна (радовался!), что готов отбыть свой червонец на маятниковой пиле.
— Лебедь,— говорил,— за себя я абсолютно уверен. Ничего со мной не случится. Глаз острый, рука твердая, не дрогнет. А знаешь, за пилой время летит. Как заведенный работаю. Не успел оглянуться — обед привезли, жбаны с кашей разгружают, звенят; перерыв, а там, глядь, гудок, конец смены. Сосновый дух, свежий воздух бодрит. Усталости ни в одном глазу. А нож, как гильотина, сам, собственной тяжестью режет, рвет древесину, усилий почти не требует. Звенит! Нудит, зудит, скулит, на нервы, правда, действует. Даже весело...
К этому времени я привык к Краснову, пристально его разглядел, изучил его, всерьез привязался к нему. Я был изрядно высокого представления о физических и духовных данных Краснова. Я свято верил в Краснова. Его слова не считал пустым бахвальством, брехней, мало опасался, что его пребывание на шпалорезке закончится осложнениями, непоправимыми увечьями. Предварительно и мимоходом сообщу, что нисколечко не мазанул: на шпалорезке с Красновым, слава Богу, ничего худого не приключилось.
23-й барак — клоповник сумасшедший, немилосердный: насекомые в нем выэволюционировались на богатых харчах непомерные, как черепахи мезозойской эры, притом морозоустойчивые и с крыльями, говорят, хотя я сам не видел, чтобы они летали, врать зря не буду. Запах, если невзначай, случаем раздавишь, резкий, надрывный, пронзительный: армянский коньяк три звездочки ереванского разлива, точно! Клопы несметными, несчетными стадами бродили по нарам, по стенам, по потолку. Мы с Красновым, как единоутробные братишки-близнецы, повязанные жребием, гнездимся на хлипкой, туда- сюда качающейся вагонке — верхние нары. На соседних — Шалимов (прошу не путать с Шаламовым, с которым я познакомился позже у Надежды Яковлевны Мандельштам), напарник Краснова по шпалорезке: неуемный трепач, воодушевленно плетет одну за другой саги, повествует, как был на страшном 46-ом ОЛПе, куда и злейшему врагу попасть не пожелает. Две трети ОЛПа — доходяги.
В пору иную, в незабвенные шестидесятые годы, уже на воле, когда я через Краснова перезнакомился и сблизился со всей их шатией-братией, опаленной лагерем, с несравненным их предводителем Кузьмою, так до конца и не разгаданным, гордыми, мощными умами: со Шмайном, Красивым, Александровым, Смирновым, Федоровым, с другими гавриками (братались, как ошалелые, напропалую говорили о лагере, о веселом житии-бытии, о каторжной молодости — заново переживали прежнее, наговориться всласть не могли), так вот раз Илья Шмайн потребовал безотлагательно, чтобы каждый из нас, вынь да положь, выудил из памяти один-единственвый эпизод, в котором полно, как солнце в капле воды, отразилась душа лагеря, самое характерное, сверхтипичное. Подход отличный от Шаламовского: Шмайн хотел не самое не самое ужасное и страшное, а типичное. Как ни странно это может показатъся, для самого Шмайна лагерь видится хотя и мрачным, зловещим, пророчески апокалипсическим, но все же немного театральным действом. Представьте, поножовщина. Не так уж важно, что было. Ну то, ну се, пятое, десятое, лагерь, словом. Все позади, стихло. Ночная смена, рабочая зона. Илья вышел из курилки в осеннюю неразбериху-непогоду, а в природе случились изменения, стихло, нахальная, преогромная, непомерная, каких не бывает, луна вылезла одним боком из-за буйной черной тучи, пугает нещадно, вот-вот туча снова заграбастает ее, обнимет, слопает. Безнадега в сердце. Душа тускла, подла, смердит, как Лазарь-четырехдневник. Чей-то молодой голос; блатной запел, посланный, как ангел молитвы, насквозь просек душу: "Нависли тучи, словно гроздья винограда". И душа Ильи воскресла, словно кто, имеющий право и власть, прикрикнул: "Лазарь, встань, иди вон". Все изменилось и в природе. И луна уже льет не кровавый, а зябко-меланхолический, двусмысленно-гермафродический, таинственный свет, вдруг фасонно переменилась, уверенно водворилась над лесом чернеющим, блестит безупречно круглым николаевским золотым или той путеводной унцией, прибитой высоко к мачте корабля, призывая смело сразиться с роком, преследовать неумолимого Белого Кита. Блатной пел. Луна сияла. Если бы вы, читатель, знали, как я люблю и уважаю Шмайва! Шмайн — голова! Мое восхищение Шмайном не знает берегов, как реализм. Однако в моих воспоминаниях лагерь преснее, будничнее, не так театрально эффектен, не так художественно закончен. Возвратимся в наш чертог, барак 23: длинный ряд вагонок, идущих по обе стороны широкого центрального прохода, полумрак, узаконенный и привычный гомон, тарарам, дым коромыслом, радио вовсю ревет. Вот уж зло, нервы не выдерживают. Лежу на нарах, слушаю надоедливый, дидактический треп Шалимова. На сей раз он брехает, как обмишулил голодную смертушку, как ускользнул из ее цепких, когтистых, железных лап.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: