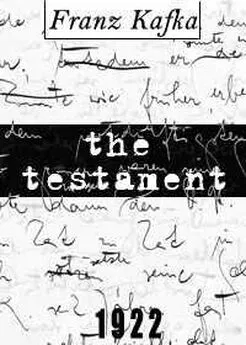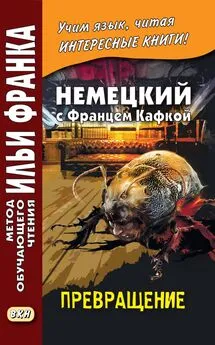Франц Кафка - Неизвестный Кафка
- Название:Неизвестный Кафка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Академический проект
- Год:2003
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-7331-0263-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франц Кафка - Неизвестный Кафка краткое содержание
В Приложении помещены наброски к совместному с Максом Бродом роману «Рихард и Самуэль», оставшемуся неоконченным, отрывки из книги Феликса Вельча «Религия и юмор в жизни и творчестве Франца Кафки», эссе Натали Саррот «От Достоевского к Кафке» и статья графолога Ж. Монно с анализом почерка Кафки.
Неизвестный Кафка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эти «господа», о которых невозможно узнать даже то, как они выглядят, которых вы можете тщетно прождать всю свою жизнь там, где они должны проехать, которые с кем-то вроде вас никогда и разговаривать не станут, «сколько бы этот кто-то ни старался и как бы отвратительно он ни протискивался вперед», с которыми вы можете надеяться установить отношения не иначе как «через протоколы» (протоколов, по-видимому, никогда не читают, но они, по крайней мере, поступят «в деревенскую регистратуру»), — эти господа, со своей стороны, знают о вас только понаслышке, и знания эти одновременно точны и абстрактны, как сведения в картотеке администрации какой-нибудь тюрьмы.
Здесь, где бесконечные расстояния, как межпланетные пространства, отделяют существа одно от другого, где человеку постоянно кажется, что «все связи с ним оборваны», исчезают всякие ориентиры, ощущение пространства притупляется, движения постепенно разлаживаются, чувства распадаются (так, от любви остается лишь животное соитие, в котором любовники «яростно, с искаженными лицами» набрасываются друг на друга под взглядами безучастных зрителей, или несколько грубых, механических жестов — пародий на ласку, адресованных анонимному партнеру, подобных тем, какими Лени одаривает К., потому что он обвиняемый и потому что в ее глазах все обвиняемые красивы), слова теряют свой привычный смысл и способность воздействовать, попытки оправдаться служат доказательством вины, а одобрительные возгласы — средством «обольщения невинного»; здесь вы всё толкуете неверно, вплоть до своих собственных вопросов; здесь вы не понимаете даже своего поведения: «в итоге уже нельзя было понять, устоял он или поддался»; здесь человек, словно лишившись зеркала, уже не узнаёт своего собственного лица; здесь вы словно в стороне, на расстоянии от самого себя, вы к себе безучастны и немного себе враждебны, — здесь леденящая пустота без света и без тени. Все те тончайшие щупальца, которые в каждое мгновение протягиваются к ближайшему партнеру, прижимаются к нему, выпрямляются, расслабляются, отталкивают друг друга и вновь сплетаются, здесь атрофируются и исчезают, как органы, ставшие ненужными; тонкие и точные движения, искусные сближения и ложные отступления — здесь уже просто слепые и беспорядочные метания, однообразные судорожные рывки животного, попавшего в ловушку; та податливость, та внушаемость, которая была тайной и жадной лаской, стала инертной покорностью вещи, бездеятельностью отчаяния перед лицом «неизбежной судьбы»; сама смерть, которой покоряются безропотно, потому что давно уже представляют собой лишь «мертвую материю», утрачивает свою трагическую неповторимость; убийство — это уже не последнее объятие и даже не последний надрыв, а всего лишь часть привычного и детально расписанного ритуала, немного тошнотворного и чуть гротескного, исполняемого чопорными, тщательно выбритыми «господами» в сюртуках и цилиндрах, причем эти господа отличаются тонкой и леденящей учтивостью и долго обмениваются любезностями, урегулируя вопросы очередности, — часть ритуала, в котором обреченный старается принимать максимальное участие и, наконец, успев еще увидеть, «как эти господа, близко наклонясь к его лицу и прижавшись друг к другу щеками, наблюдали за финалом», умирает, зарезанный, «как собака!»
Со свойственным некоторым гениям пророческим даром, породившим у Достоевского предчувствие могучего братского порыва русского народа и его необычной судьбы, Кафка, бывший евреем и живший под сенью немецкой нации, предсказал будущую судьбу своего народа и проник в те глубинные черты немецкого характера, которые привели немцев к спланированному и реализованному ими уникальному эксперименту с желтыми сатиновыми звездами, выдававшимися с вырезанием двух купонов из карточки на текстиль, с печами крематориев, на которых помещались большие рекламные щиты, указывавшие название и адрес фирмы производителя санитарного оборудования, создавшей эту модель, и с газовыми камерами, в которых по две тысячи обнаженных тел (одежда, как в «Процессе», тщательно складывалась и сохранялась: так «складывают вещи, которые еще понадобятся») корчились под взглядами прибывших для инспектирования господ в сапогах, в застежках, в ремнях и со значками отличий, наблюдавших за жертвами в застекленное окошко, к которому подходили друг за другом, соблюдая очередность и обмениваясь любезностями.
Там, за этим последним пределом, который Кафка со сверхчеловеческим мужеством перешел не вслед за ними, а раньше них, исчезают все чувства, даже презрение и ненависть, и остается только какое-то гигантское опустошенное оцепенение, какое-то решительное и полное непонимание.
Невозможно ни оставаться рядом с Кафкой, ни идти дальше. Тем, кто живет на земле людей, не остается ничего другого, кроме как повернуть назад.
Заметки переводчика
Как фрагменты, так и записи тетрадей ин-октаво по своему характеру чрезвычайно разнородны, однако в первом приближении можно разделить их на две группы. К первой относятся не всегда законченные, но художественно определившиеся формы: маленькие рассказы, притчи, афоризмы, ко второй — «начала»: мысли, образы, сопоставления, картины, словно бы выхваченные из темноты внутренней вспышкой. Записи первой группы преобладают в тетрадях ин-октаво ( № 3и № 4— это просто «философские тетради» Кафки), подавляющее число фрагментов относятся ко второй. Эта вторая группа особенно интересна: здесь перед нами не только сравнительно большие отрывки с уже намеченной экспозицией будущего рассказа или даже линией сюжета (записи 1.8, 1.18, 6.5, 7.4, 7.5, фрагменты 1, 2, 55, 62, 78и др.), но и случайные «сгустки» воображения, «первотолчки» мысли — своеобразный генетический материал виртуальных художественных произведений, причем — что очень важно — еще практически не обработанный творческой волей художника, иначе говоря, не подвергшийся естественному художественному отбору и вторичному модифицирующему влиянию культурной среды. Это чистый первичный материал литературы, зарождающейся из первобытного океана жизни, и именно в случае Кафки это материал бесценный. Нет, не только потому, что Кафка — гениальный художник. Здесь важно качество его гениальности, которое Герман Брох определил как «почти мифическое» [29], проявляющееся в уникальной спонтанной непосредственности восхождения бессознательного в поэтическое высказывание: «тут… такая истинность, которой до сих пор обладал один-единственный писатель — это был Кафка». А ведь Брох писал о произведениях, в той или иной мере художественно обработанных автором, тогда как «начала» Кафки делают для нас возможной (Брох такой возможности не имел) фантастическую попытку увидеть — или вообразить само зарождение, если не сказать «самозарождение», художественного произведения. (Можно представить себе радость исследователей психологии творчества, которым впервые попадают в руки эти «начала»: где бы они еще взяли такой материал?) Конечно, не всякая попытка удается, но попробуем. Раз мы говорим о «первотолчках», то начать надо, очевидно, с самого простого, короткого начала, еще не получившего никакого развития. Вот фрагмент 269, две строчки: «Я убежал от нее. Я бежал вниз по склону. Высокая трава мешала мне бежать. А она стояла наверху под деревом и смотрела мне вслед». Ну и что? Что, собственно, здесь рождалось? Что тут особенного записано? Двое расстались. Может быть, поссорились. Он убежал, она смотрела вслед. Зачем Кафка это записал? Что он в этом увидел? Все ясно и просто. Где тут Кафка? Странно. Ну, еще раз почитаем, помедленнее. «Убежал». Несколько сильное выражение. Обычно, даже поссорившись, все-таки не убегают, а уходят. Может, не поссорились, а — дела позвали? Может быть, вспомнил что-то неотложное. А может, просто склон крутой, и по нему бежать легче, чем идти? Да нет, сказано «от нее», значит речь о личном. О личном? Ну, так все понятно, Кафка же три помолвки разорвал. Он убегал, ему смотрели вслед. Элементарный автобиографический мотив. Это многое объясняет. Но не очень понятно, зачем он этот мотив записал. Боялся забыть? Едва ли. Нет, автобиографические мотивы не записывают — их носят в себе, из них состоят. Да и сами по себе они нежизнеспособны и остаются только мотивами, пока не соединятся, не срифмуются с чем-то иным. Ну, и с чем же тут соединяется его бегство? «Трава мешала» — это что значит? Природа, что ли, против? А она зачем «под деревом»? Ну, вдвоем были, под деревом лучше: меньше чужих глаз. А может, никого вокруг и не было? Может, и не было, но это же всеобщий инстинкт укрытия, идущий, наверное, от Адама и… Под древом… так, может быть, ее зовут Ева? А его — Адам. И Адам убежал от Евы, убежал от древа. А она смотрела ему вслед. Но он не поддался, устоял, убежал. Грехопадения не будет, не будет проклятия, изгнания, всей этой истории, — не будет ничего. Но Адам останется чист. Беги, Адам, беги, чистота дорогого стоит. Впрочем, это какой-то виртуальный Адам из паутины, духовно озабоченный Адам. Так что же, с улыбкой спросите вы, Кафка именно это и записал? Да, отвечу я. Виртуально. Но если вы отнесетесь к этому иначе, вы прочтете иную (альтернативную) историю.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
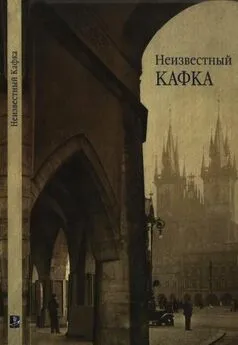

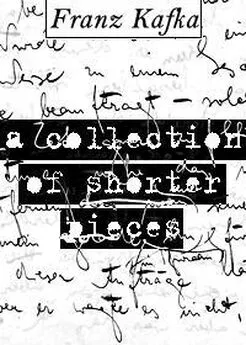
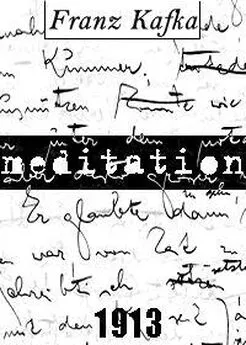
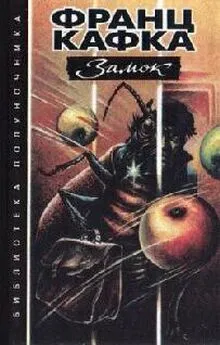
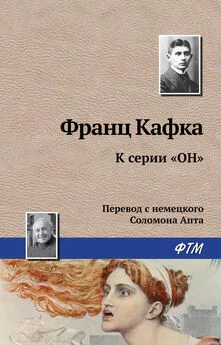
![Франц Кафка - Превращение [сборник]](/books/1097380/franc-kafka-prevrachenie-sbornik.webp)