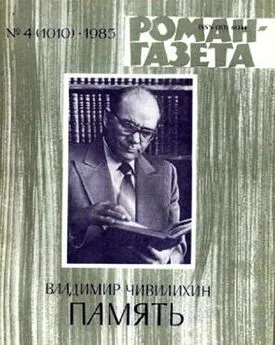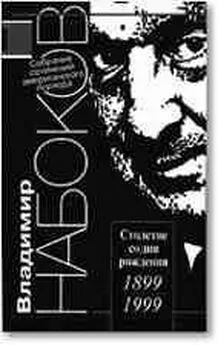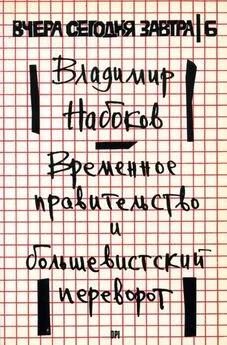Владимир Набоков - Память, говори (пер. С. Ильин)
- Название:Память, говори (пер. С. Ильин)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Набоков - Память, говори (пер. С. Ильин) краткое содержание
Память, говори (пер. С. Ильин) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мистер Бэрнес был крупного сложения, светлоглазый шотландец с прямыми соломенными волосами и красным лицом. По утрам он преподавал в языковой школе, а на остальное время набирал больше частных уроков, чем день мог вместить. При переезде с одного конца города на другой он всецело зависел от шлепающих шаткой рысцой извозщичьих кляч, доставлявших его к ученикам, и хорошо если попадал на двухчасовой урок (куда бы ради него ни приходилось тащиться) с опозданием в четверть часа, а к четырехчасовому добирался уже в шестом часу. Тягостное ожидание, вечная надежда, что хоть на этот раз сверхчеловеческое упорство не одолеет серой стены особо сильного бурана, – все это были чувства, возобновление которых едва ли предвидишь в зрелые лета (однако мне пришлось испытать нечто очень похожее, когда в Берлине, будучи вынужден сам преподавать язык, я бывало сидел у себя в меблированных комнатах и ждал одного каменноликого ученика, появлявшегося всегда, несмотря на все баррикады, которые я мысленно строил поперек его пути).
Самая темнота, заволакивающая улицу, казалась мне побочным продуктом тех усилий, которые делал мистер Бэрнес, чтобы добраться до нас. Приходил камердинер, опускал пышно-синие шторы, затягивал цветные гардины. Короткие штаны жали в паху, а черные рубчатые чулки шерстили под коленками, и к этому примешивался скромный позыв, который я ленился удовлетворить. Проходил едва ли не час – Бэрнеса все не было. Брат уходил в свою комнату, играл на пианино какие-то упражнения, потом брался, сбиваясь и повторяясь, за мелодии, которые я ненавидел – наставления, даваемые в “Фаусте” искусственным цветам (“…dites-lui qu'elle est belle…”) или стенания Владимира Ленского (“Куда, куда, куда вы удалились…”). Покинув верхний, “детский” этаж, я медленно соскальзывал по перилам лестницы на второй этаж, где находились аппартаменты родителей. Обычно они в это время отсутствовали, и в сумеречном оцепенении их комнат молодые мои чувства подвергались – телеологическому, что ли, “целеобусловленному” воздействию – как будто собравшиеся в полутьме знакомые предметы стремились создать этот определенный, окончательный образ, повторявшиеся предъявления которого наконец запечатлели его у меня в мозгу.
Сепиевый сумрак студеного вечера середины зимы вторгался в комнаты, сгущаясь до гнетущего мрака. Там и сям, бликом на бронзовом ангеле, блеском на стекле, бельмом на красном полированном дереве, отражался в потемках случайный луч, проникавший с улицы, вдоль срединной линии которой уже горели лунные глобусы высоких фонарей. Вырезные тени ходили по потолку. Нервы заставлял “полыхнуть” сухой стук о мрамор столика – от падения лепестка хризантемы.
У будуара матери был удобный навесный выступ, так называемый фонарь, откуда была видна Морская до самой Мариинской площади. Прижимая губы к тонкой узорчатой занавеске, я постепенно лакомился сквозь тюль холодом стекла. Всего через несколько лет, в начальные дни революции, я наблюдал из этого фонаря разные уличные стычки и впервые видел убитого человека: его несли, и свешивалась с носилок нога, и с этой ноги норовил кто-то из плохо обутых товарищей стащить сапог, а несущие отгоняли его пинками и плюхами – и все на ходу, резвой рысцой. Но в пору уроков мистера Бэрнеса нечего было наблюдать кроме приглушенной темной улицы и линии высоковато подвешенных ламп, вокруг которых снежинки проплывали, едва вращаясь каким-то изящным, почти нарочито замедленным движением, словно показывая, как это делается и как это все просто. Из другого фонарного угла я заглядывался на более обильное падение снега, на более яркие, окруженные лиловатыми нимбами газовые фонари, и тогда мой стеклянный выступ начинал медленно подниматься, как воздушный шар. Наконец, одни из скользивших вдоль улицы призрачных саней останавливались, и мистер Бэрнес в его лисьей шапке с глупой поспешностью устремлялся к нашим дверям.
Я возвращался, предупреждая его, в классную, и уже оттуда слышал, как приближаются его сильные шаги. Какой бы мороз ни был на дворе, его славное, красное лицо блестело перловым потом. Помню страшную энергию, с которой он нажимал на плюющееся перо, записывая круглейшим из круглых почерков очередное задание. Перед самым его уходом я выпрашивал у него один лимерик и получал таковой. Прелесть представления была в том, что слово “screamed”, кричала, я невольно разыгрывал сам, всякий раз что мистер Бэрнес ужасно сдавливал (“crushed”) мне ладонь, держа ее в своей мясистой лапе и между тем произнося строки:
There was a young lady from Russia
Who (сдавливает) whenever you'd crush her.
She (сдавливает) and she (сдавливает)…
тут боль становилась настолько нестерпимой, что дальше мы с ним так никогда и не зашли.
5
Тихий, сутулый, бородатый, со старомодными манерами, мистер Куммингс, который учил меня в 1907-ом или 1908-ом рисовать, был когда-то учителем рисования и моей матери тоже. В Россию он попал в начале девяностых годов в качестве иностранного корреспондента-иллюстратора лондонского Graphic'а. Говорили, что его личная жизнь омрачена несчастьями. Грусть и кротость скрадывали скудость его таланта. Он носил демисезонное пальто, если только погода не была очень теплой – тогда он надевал зеленовато-бурый плащ-лоден.
Меня пленяло то, как он пользуется особым ластиком, лежавшим у него в жилетном кармане, его манера туго натягивать лист бумаги и после отбрасывающим движением кончиков пальцев стряхивать с него “gutticles of the percha” (как он выражался). Безмолвно, грустно он демонстрировал мне мраморные законы перспективы: длинными, прямыми штрихами грациозно лежащего в пальцах, невероятно острого карандаша создавая из ничего очертания комнаты (условные стены, сужающиеся вдали пол и потолок), с дразнящей и безжизненной точностью сходящиеся в одной далекой, гипотетической точке. Дразнящей, поскольку напоминала мне рельсы, симметрично и обманно схмыкающиеся под взглядом налитых кровью глаз, принадлежащих моей излюбленной маске, закопченному машинисту; безжизненной, поскольку комната оставалась необставленной, совершенно пустой, лишенной даже безликих изваяний, какие встречаешь в первом, неинтересном зале музея.
Остаток картинной галереи искупал пустынность ее вестибюля. Мистер Куммингс был мастером закатов. Маленькие его акварели, в разное время приобретаемые рублей за пять-десять членами нашей семьи и домочадцами, прозябали, оттесняемые все дальше и дальше, по темным углам, пока их совсем не скрывал какой-нибудь лоснистый фарфоровый зверек или новообрамленный снимок. После того что я научился не только рисовать кубы и конусы, но и правильно тушевать ровными, сливающимися линиями те их бока, какие следовало бы навсегда отвернуть к стене, симпатичный старец довольствовался тем, что просто писал на моих зачарованных глазах свои влажные, райские виды, вариации одного и того же ландшафта: оранжевое небо летнего вечера, пастбище, тянущееся к окаймляющей его черной бахроме дальнего бора, лучезарная река, повторяющая небо и излуками уходящая все вдаль, вдаль.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: