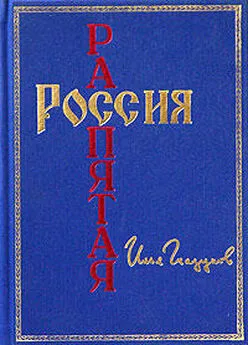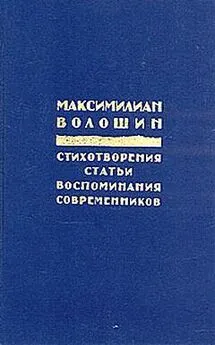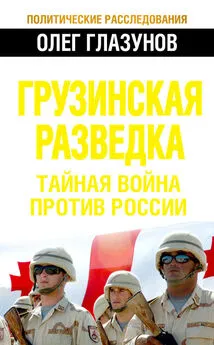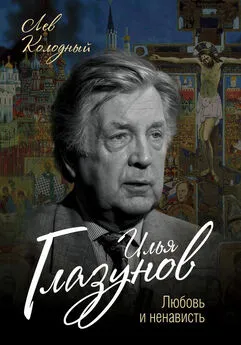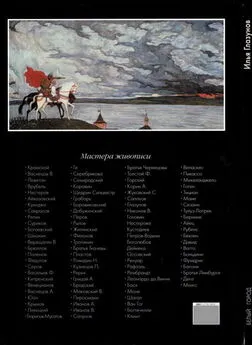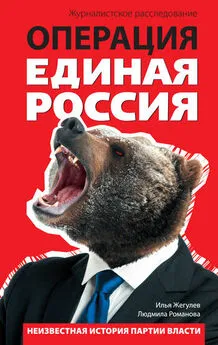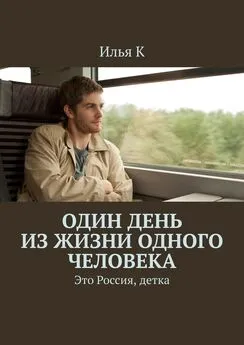Илья Глазунов - Россия распятая
- Название:Россия распятая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Олимп
- Год:2004
- ISBN:5-7390-1317-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Илья Глазунов - Россия распятая краткое содержание
Мы начинаем публикацию книги великого русского художника, нашего современника Ильи Сергеевича Глазунова, живущего вместе с нами в страшные апокалипсические дни русской смуты.
Книга эта не только исповедь художника и гражданина России, но и мыслителя, дающего свою концепцию русской истории, апеллирующего к историческим документам и трудам преданных забвению великих русских историков.
Общеизвестно, что творчество Глазунова имеет как яростных врагов, так и многомиллионных друзей, часами простаивающих на его выставках. Илью Глазунова называют феноменом, выразителем «загадки русской души»...
Россия распятая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Семья Сергея Владимировича много времени проводила на даче на Николиной горе, и там, под шумящими соснами, где бескрайние дали и сверкающая на солнце Москва-река, я встречал самых разных по профессии и творческим устремлениям людей. У Михалковых часто бывал талантливейший молодой композитор и дирижер Вячеслав Овчинников. Мы часами спорили с ним о смысле и понимании назначения художника и музыканта. От композитора Шебалина, портрет которого я писал, я впервые услышал о Славе, тогда еще подающем великие надежды студенте консерватории, который считался смелым новатором-авангардистом. Первые впечатления от знакомства: талантлив, красив, напорист и умен, лукавые глаза, пышная шевелюра. Он чем-то неуловимо напоминал мне портрет молодого Бетховена. Сколько мы спорили! По дороге в Ростов Великий останавливались, как правило, в Троице-Сергиевой Лавре, молитвенно чтя память преподобного Сергия Радонежского.
Я был крайне удивлен, что мой новый друг не бывал в Петербурге, не видел Эрмитажа и Русского музея. И Нина, обладавшая великим даром зажигать сердца людей, старалась раскрыть Овчинникову, что такое «душа Петербурга» – столицы русской и европейской культуры. Уже в 1996 году Слава, улыбаясь своей коварно-иронической улыбкой, заявил: «Я всегда буду благодарен тебе и Нине, что вы вырвали меня из объятий сатаны. Ведь когда мы с тобою познакомились, я увлекался додекафонией авангардной музыки. Что было бы со мной?»
Помню, как на Николиной горе, в прохладной тени сосен, Андрон с Андреем Тарковским работали над сценарием фильма «Андрей Рублев». Юный Никита при сем присутствовал, внимательно слушая, как старший брат спорил с Тарковским. Слава Овчинников, напомню, написал музыку для фильмов Тарковского – «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Обожающий его С. Ф. Бондарчук пригласил композитора написать музыку для ставшего шедевром мировой кинематографии фильма «Война и мир». Позднее, через несколько лет, с большим успехом прошла премьера симфонии Вячеслава Овчинникова «Сергей Радонежский». Должен еще раз подчеркнуть, что «Андрей Рублев» Тарковского абсолютно чужд мне по своей концепции. Категорически не приемлю трактовку режиссером русской истории и его характеристики самого Андрея Рублева. Тарковский, когда я с ним познакомился, был совсем молодой, как и все мы. Сегодня он, бесспорно, один из классиков мирового кино, его талант и яркая индивидуальность общепризнанны и неоспоримы. Но тогда в Доме кино, на премьере «Андрея Рублева», Андрей говорил мне, что фактически о Рублеве ничего не известно, и он снял фильм в расчете на искушенных зрителей. Большинство «своих» действительно поняли, что хотел сказать Тарковский, и были от этого в восторге. Как я уже говорил, мне фильм показался… антирусским. Такую именно Россию, с моей точки зрения, хотели и хотят видеть многие члены жюри в Каннах или Венеции. Для нас, русских, думающих так же, как я, образ ныне причисленного к лику святых Андрея Рублева имеет совсем другой смысл и значение. Рублев неотделим от Сергия Радонежского и России и Европы Куликовской битвы.
Непроходимая вечная грязь, жестокость, разруха; духовная аристократия монголов, разгоняющих русское быдло, одетое в белые длинные балахоны: монах, забивающий насмерть палкой собаку; словно бы всем и всегда неудовлетворенный в своих поисках, будто советский интеллигент в рясе, Андрей Рублев; и великий художник гибнущей Византии Феофан Грек, словно дед Щукарь, сидящий на колхозном складе; убивающие друг друга князья… Я лично не верю в реальность проявления и «загадочной души» русских, когда отрок на удивление всем отливает колокол. Как все это далеко, если уж говорить о национальном звучании исторической правды, от фильмов моего любимого режиссера Куросавы! «Расёмон», «Красная борода», «Злые остаются живыми» я считаю великими фильмами, исполненными любви к Японии, восхищения перед деяниями предков. Акиро Куросава, который, кстати, больше всех из писателей любил Федора Достоевского, – это выдающееся явление общечеловеческой мировой культуры ХХ века. Сколько наших режиссеров, держа фигу в кармане, были вроде бы в оппозиции к тоталитарной советской идеологии, а на деле поддерживали ее. Смотрите, дескать, коммунистический режим ни в чем не повинен, русские всегда были такими: темными, нищими, тупыми рабами, целующими палку рабовладельцев, не знающими, что такое свобода. Они заслуживают, при всей мнимой «тайне русской души», лишь презрения, и могут вызвать только страх непредсказуемостью рабского бунта… И как тут еще раз не вспомнить высказывание Бердяева: «Коммунизм детерминирован русской историей». Неправда! Ни один народ не обречен на коммунизм. Сегодня, в наше время «диктатуры демократии», когда можно печатать и прочитать многое, о чем раньше боялись даже думать, мы стали все глубже узнавать, кто и как на самом деле готовил крах великой русской империи, как в свое время крах великой Англии и Франции.
Последующие работы Тарковского, как ныне говорят, «фильмы не для всех». Эмигрировав в Европу, Андрей, как мне думается, не получил там той поддержки, о которой мечтал. Мне рассказывали в Италии, что его фильмы не считались такими, которые приносят коммерческий успех продюсерам. И хоть я никогда не был другом Тарковского, мое сердце сжималось от боли, когда я читал о последних годах его жизни, о тяжелой болезни талантливейшего режиссера. Судя по сообщениям эмигрантской прессы, он многое сумел переосмыслить и передумать заново. Когда я стоял на русском кладбище Сен-Женевьев дю Буа и смотрел на черный каменный крест, под которым покоятся останки Андрея Тарковского, я прочел странную надпись, вырубленную в черном граните: «Он видел ангела». Вдумываясь в смысл этих слов Андрея, я вспоминал те далекие годы, когда в жарком мареве Подмосковья, на даче у Михалковых, познакомился с молодым, худощавым, нервным, очень интеллигентным режиссером. Как быстро и неотвратимо летит время…
Не так давно, показывая мне обложку журнала Андрея с фотографией младшего сына, Сергей Владимирович пошутил: «Раньше говорили: сын Сергея Михалкова – Никита, а теперь говорят: Сергей Михалков – отец Никиты Михалкова. А помню, как на одном приеме у Хрущева, куда была приглашена интеллигенция, я взял с собой сына, он тогда юношей был. Позволил себе в присутствии всех пошутить: „А вот еще один Никита Сергеевич“. Показал на Никиту. Шутка моя понравилась, Хрущев в украинской рубахе долго хохотал и жал мне руку».
И еще об одной встрече у Сергея Владимировича, уже в давние годы. Помню, ежесекундно звонил телефон – он только успевал положить трубку, как снова звонок. Молодой детский писатель Толя Алексин, выдвиженец Михалкова, восторженно шепнул мне: «Он может все». Поднимая глаза на меня, сидя в пижаме, Сергей Владимирович сказал: «Ильюша, я не думал, что у тебя столько врагов. И потому запомни, что язык – главный враг твой, а не только твои картины. Я у одного художника, Ленинского лауреата, спрашиваю: „Ну, а есть у вас художники хуже, чем Глазунов?“ Тот задумался нерешительно говорит: „Да, пожалуй, есть“. – „А много таких?“ – „Много“. Я не выдержал: „Почему же, если они хуже Глазунова, вы их не ненавидите так же, как Глазунова?“ Тому и крыть нечем – он молча отошел от меня».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: