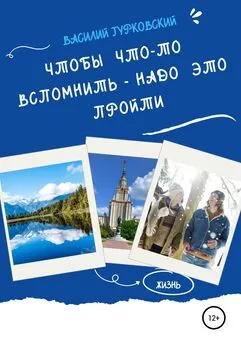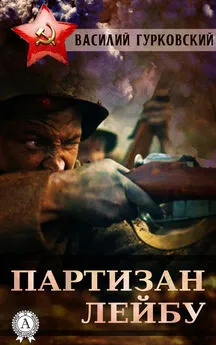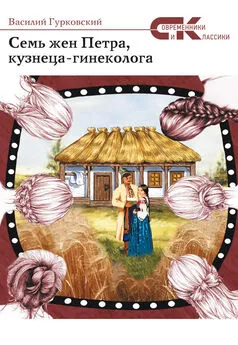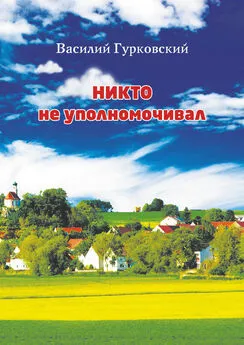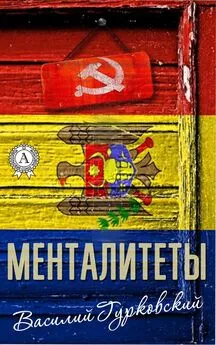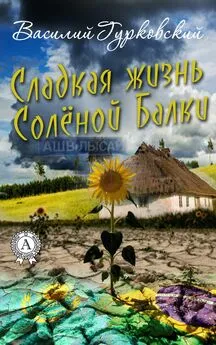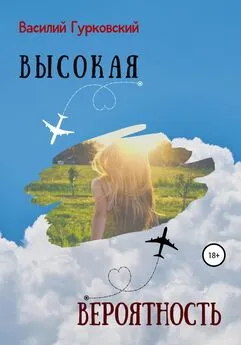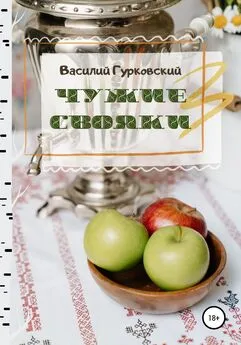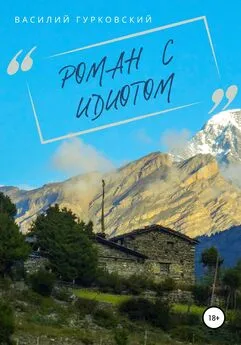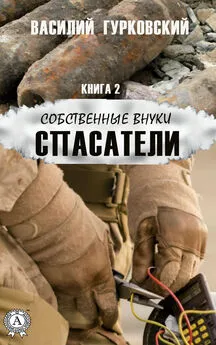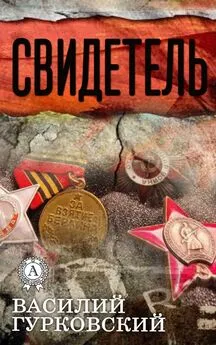Василий Гурковский - Чтобы что-то вспомнить – надо это пройти
- Название:Чтобы что-то вспомнить – надо это пройти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Гурковский - Чтобы что-то вспомнить – надо это пройти краткое содержание
Чтобы что-то вспомнить – надо это пройти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
После четвертого молитвенного похода, я решил пожалеть себя и прекратить эти издевательства.
Жил я в квартирантах уже больше месяца, знал, где и что находится. По утрам, управляясь со скотом, набирал в закроме зерно и видел запасы сельских «деликатесов» моих хозяев. Над зерном вдоль стены висело восемь копченых окороков, задрапированных в марлю, а снизу на полке стояли десятка полтора кувшинов и банок со сметаной. Лампочки в закроме не было, свет едва проникал через вмазанное в стену стекло размером с ладонь, так что там и в самый светлый день царил полумрак. После месячной «галушкиной» диеты и пыток холодом по выходным, я стал все внимательнее поглядывать и на окорока, и на кувшины.
В один из очередных выходных, когда все мое существо буквально застыло, я решился. Дверь дома – на замке, а дверь сарая – на крючке, изнутри. Ножом открыл крючок, закрывающий изнутри дверь сарая, зашел в дом, немного отошел от холода и направился в закром. Выбрал в дальнем углу окорок, отрезал приличный кусок, налил кружку сметаны из кувшина, долил туда молока из неполной банки, очень оперативно все это оприходовал, полежал на топчане, а примерно за полчаса до обычного возвращения хозяев таким же путем вышел с гармошкой на улицу. И сразу показалось, что и жизнь хороша, и жить хорошо. Пришла к вечеру молодежь, даже потанцевали. Я и не заметил, когда появились хозяева, играл, пока меня не позвали на те самые злополучные галушки. Кстати, с тех пор, я галушки, а также клецки и прочая, не кушаю – я их видеть не могу. Так они меня достали.
Ну, а тогда, после моей первой вылазки в закром, в монотонной жизни появилось разнообразие. Каждое утро, ухаживая за скотом, я попутно отрезал кусок окорока, брал с собой хлеб и на обед не приходил. И зачем мне были те клейкие галушки, когда я имел кое-что получше. …..
К счастью, подходило к концу мое квартирование. Вот-вот бригада должна выйти в поле, и на вопросы хозяйки, почему не хожу на обед, я каждый раз находил какие-то отговорки. Так продолжалось еще некоторое время, но за две недели окорок закончился. Остались от него только темно-коричневая шкура, чистая белая кость и марля.
Для придания окороку видимой формы пришлось приладить несколько деревянных палочек-распорок. Обернутый марлей муляж внешне был очень похож на то, что раньше значилось окороком. По моим расчетам, очередь для его использования должна была подойти примерно к осени. Значит, время еще оставалось…
Хотя я заработал в этой семье не на один окорок, но этот случай преследовал и смущал меня долгие годы, пока, наконец, благополучно не завершился. Мы к этому еще вернемся, в конце этой были.
А в тот год, в середине апреля, мы, наконец-то, вышли в поле. Слава Богу, закончились унижения, переохлаждения и «галушкины» диеты. Настала пора определиться и с моим местом работы.
Как-то утром бригадир подозвал меня и повел на смотрины. «Вот они стоят, как раз рядом, наши гвардийцы: один колесник – СТЗ, другой – ЧТЗ, С-60, – показал рукой бригадир. – Мы их тут подлатали немного за зиму, будут робить». Возле гусеничного С-60 кружился чеченец Ахмед, парень лет тридцати, под два метра ростом, с иссиня-черной щетиной на лице и разбойничьим внешним видом. Мы с ним уже познакомились во время ремонта сельхозмашин. Ахмед, увидев меня с бригадиром, приветливо закричал: «Слушай, Василь, давай ко мне напарником, машина звер, еще на фронте тащила болшой пушка. А как поворачивает на месте! Пилотку земли в люк, где фрикцион, высыпешь, так он, как молодой крутится!»
«Ды ладно, ладно, Ахмед, – осадил его Рубцов, – не пойдеть ён к тебе, и ты знаешь почему. А ну, заведи свой тягач, пусть пацан посмотрит, как это делается» – добавил он.
Ахмед проверил, выключена ли коробка передач, взял с площадки довольно приличный лом и пошел с левой стороны заводить свой трактор.
Чтобы читатель представил себе эту технику, дам небольшую характеристику. Трактор Челябинского завода «С-60» был первым из серии тяжелых тракторов класса пятитонников. Имел четырехцилиндровый двигатель, работающий на лигроине – это горючее между керосином и бензином. Без кабины. Прямо возле тракториста, с левой стороны, крепилась двухсотлитровая бак-бочка с тем самым лигроином. Ходовая часть у этого трактора и система управления были удачными и практически неизменными переходили потом в другие модификации – уже дизельный С-65, затем С-80, С-100, и даже Т-130.
Но была у этого трактора одна (кроме прочих) очень неприятная особенность – он заводился ломом. Да, обыкновенным металлическим ломом Прямо в метре от сиденья тракториста находился открытый огромный маховик с отверстиями под лом. Тракторист вкладывал его и резким движением проворачивал маховик. Новых таких тракторов я не видел, а те, которые пришлось, никогда с первого рывка не заводились. Иногда приходилось десятки раз рвать руки и сбивать пальцы, пока двигатель, наконец, начинал реветь. Нередко, в силу различных причин, двигатель «бил назад», тогда лом, вырываясь из рук, летел смертоносным оружием в противоположную сторону, и горе было тому, кто вдруг мог оказаться на его пути. Как ни старался Ахмед показать мне класс при заводке, именно в этот раз лом у него из рук вырвало. Минут десять стоял он, сцепив руки и корчась от боли. При таком рывке руки сильно «сушит», это трудно объяснить, и пока сам не почувствуешь, – не поймешь.
Бригадир посмотрел на меня и понял, что больше ничего объяснять не надо. Помолчав, сказал; «Иди, принимай колесник, заправь его, цепляй конную повозку и езжай в бригаду».
Так я стал трактористом, полноправным членом тракторной бригады. «Стальной конь» мне достался уникальный даже по тем временам. В стране их выпускали два завода – Сталинградский (СТЗ) и Харьковский (ХТЗ). Первый работал, как правило, на Восток, второй – на западную часть СССР. Трактора обоих заводов были идентичны – из сплошного металла. Все узлы, колеса, рулевое управление и даже сидение для тракториста на жесткой прогибающейся стальной пластине – все было металлическое. Узлы и агрегаты были простыми, грубо связанными между собой, довольно крепкими и надежными. Двигатель был керосиновый и имел очень существенный недостаток – его шатунные и коренные подшипники были заливными, баббитовыми. Если снову это не было особо заметно, то на моем тракторе, который был на 5 лет старше меня, независимо от вида выполненных работ, приходилось через два дня на третий, обязательно делать «перетяжку». То есть, слить масло, снять поддон картера (чугун-ный на 32-х болтах), затем головки шатунов и убрать специальные латунные прокладки – одну, две и более, где сколько надо, на ощупь, при визуально-ручной проверке плотности посадки шатуна на шейку коленчатого вала. Если поленишься или прозеваешь, хоть на один день или на один стук двигателя – все, работа заканчивалась: в шатуне набивался эллипс, появлялся стук, и двигатель выходил из строя. Надо было или двигатель вести в МТС, или буксировать туда трактор – для заливки, шлифовки и подгонки шатунов. Это уже была целая история, и потеря массы времени. Процедура «перетяжки» была несложная, но препротивная своей частой периодичностью, грязью и необходимостью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: