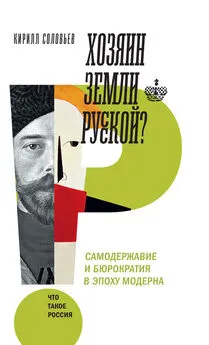Кирилл Соловьев - Res Publica: Русский республиканизм от Средневековья до конца XX века. Коллективная монография
- Название:Res Publica: Русский республиканизм от Средневековья до конца XX века. Коллективная монография
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444816790
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Соловьев - Res Publica: Русский республиканизм от Средневековья до конца XX века. Коллективная монография краткое содержание
Res Publica: Русский республиканизм от Средневековья до конца XX века. Коллективная монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Позднейшие приверженцы политического августинианства разовьют эту мысль, утверждая, что подобным предметом общей любви может быть и человек, а именно король (природа слова res позволяет прочитывать его и подобным образом). В таком случае народ становится народом лишь тогда, когда объединяется в любви к своему королю. В случае же восстания против него, равно как и в случае предательства, совершенного народом по отношению к королю, народ перестает быть таковым, превращаясь в лишенную всякой субъектности толпу. Впрочем, неизменно верно и обратное – как уже говорилось, res publica не живет вне и помимо народа, что в данном контексте означает, что король остается таковым только тогда, когда с любовью и с подобающей строгостью правит своим народом.
Определение Августина и, шире, его концепция любви как триггера всякого политического объединения 46 46 Именно всякого: можно вспомнить классическое его рассуждение о различии civitas Dei и civitas terrena , в русском переводе «града Божьего» и «града земного». Они, пишет прелат, объединены двумя родами любви: первый – любовью к Богу, доходящей до презрения к себе, второй – любовью к себе, доходящей до презрения к Богу.
оказались более востребованными и актуальными, нежели изначальная дефиниция Цицерона. Дело в том, что формула римского оратора прекрасно работает лишь в относительно небольших коллективах. Да, Цицерон нигде не прописывал территориального ограничения понятия «народ» и, как следствие, понятия res publica , но оно вытекало из самой его логики. Ведь если нашим «общим делом» становится реитеративное проговаривание и коллективное осмысление практик общежития, то это требует относительно небольшого (в количественном и территориальном отношении) состава гражданской общины. Представить себе подобные рационализирующие практики в объеме огромной империи просто невозможно. Замена же их на фактор эмоциональной общности, очевидно, снимает это ограничение. Даже в Древнем мире было понятно, что сердечное согласие относительно предмета общей любви вовсе не требует ни личных встреч соглашающихся друг с другом или с предметом их любви, ни даже личного знакомства. Любить нечто общее вполне можно, даже находясь на огромном расстоянии друг от друга.
Подводя итоги раздела, можно постулировать, что к середине V в. н. э. сформировались два основных подхода к тому, что есть res publica . В рамках первого из них, принадлежащего Цицерону, это понятие трактовалось как «общее дело» и подразумевало наличие между членами политической общности – народа – рационального согласия относительно того, что такое право и по каким правилам им следует выстраивать свою жизнь. Еще одной гранью «общего дела», отраженной не только у Цицерона, но и в текстах римско-правовой традиции, в том числе и вошедших в состав Свода Юстиниана, было понимание того, что у народа (или, ýже, у гражданской общины – civitas ) есть некий объем общих (или публичных) вещей – res publicae . В их отношении «общим делом» становилась забота о них, поддержание в надлежащем порядке дорог, скотопрогонных путей, акведуков, мостов, стен, площадей и т. д. В рамках второй трактовки, сформулированной прежде всего Аврелием Августином, res publica воспринималась как общий объект любви и единение, в том числе политическое, достигалось как раз благодаря любви к этому объекту.
При этом обоих авторов объединяет понимание res publica как начала, имманентного по отношению к народу ( populus ), который и является единственным актором политического поля. Собственно, именно наличие «общего дела» или, если следовать Августину, «общего предмета любви» и делает из разрозненного множества людей народ – единый, обладающий субъектностью, способный к совершению солидарных действий и к назначению своих представителей-магистратов, выступающих от его имени.
На протяжении последующих нескольких веков можно проследить сначала постепенное угасание интереса к феномену res publica (или, как его стали писать в Средние века, respublica ), а затем возрождение, связанное во многом с комплексом процессов в европейской культуре, известных как «Ренессанс XII века». Это не могло не отразиться и на судьбе понятия «народ». С одной стороны, превалирующей методологической рамкой его осмысления в этот период оставалась цицеронианско-августинианская парадигма. С другой же – видно, как на фоне серьезнейшего упадка интеллектуальной культуры – в частности, тексты Цицерона на несколько столетий практически выпали из оборота, их перестали читать и комментировать – деградировала и мысль о народе. Формулировки Цицерона и Августина, безусловно, знали, но, поскольку фрагмент из De re publica был известен только в контексте августиновского трактата 47 47 О судьбе в средневековой традиции комментируемых фрагментов Цицерона см. статью: Kempshall M. S. De Republica I.39 in Medieval and Renaissance Political Thought // Cicero’s Republic / Ed. by J. A. North and J. G. F. Powell. London, 2001. P. 99–135.
, они иногда подвергались весьма любопытным трансформациям, смешиваясь друг с другом.
Достаточно ярким примером, иллюстрирующим сказанное, можно счесть труды Исидора Севильского, одного из так называемых «последних римлян», человека энциклопедически образованного, автора знаменитых «Этимологий», или «Начал в 20 книгах» 48 48 О жизни и творчестве Исидора см. относительно недавнюю монографию Елены Марей и ряд разделов в коллективном труде «Теология и политика…»: Ауров О. В., Марей Е. С. Теология и политика. Власть, церковь и текст в Королевствах Вестготов (V – начало VIII в.): Исследования и переводы. М., 2017; Марей Е. С. Энциклопедист, богослов, юрист: Исидор Севильский и его представления о праве и правосудии. М., 2014.
. На протяжении всего своего творчества Исидор крайне редко обращался к теме народа, еще реже – к понятию respublica (оно у него употреблялось всего 2 раза). Определение Августина он, безусловно, знал, что ясно из фрагмента его «Этимологий» 49 49 Isid. Etym. IX. 4. 5–6 : Populus est humanae multitudinis, iuris consensu et concordi communione sociatus.
. Как видно из приведенной в сноске цитаты, у испанского прелата выпущено слово coetus , фигурирующее в обеих исходных дефинициях. В оставшейся же части определения остался цицеронианский consensus iuris , а «общность пользы» оказалась заменена словосочетанием communio concordi , т. е. искаженной «общностью сердечного согласия». В свою очередь, «вещей, которые любит humana multitudo », т. е. объекта августинианского сердечного согласия, в определении Исидора тоже нет. Очевидно, что Исидор цитировал нужное ему определение наизусть, не сверяясь с рукописью, – только так можно логично объяснить возникшую в его тексте контаминацию двух разных определений. В результате, что естественно, и родилась полубессмысленная формула, практически не получившая дальнейшего развития 50 50 Отмечу, что отечественным исследователем С. В. Рассадиным была предпринята достаточно смешная и наивная попытка «реабилитации» Исидоровой дефиниции народа. Он предлагает свой «перевод» приведенной в предыдущей сноске фразы: « Народ – это человеческое множество, объединенное по общему договору законом и согласием » ( Рассадин С. В. Становление модели ‘Populus Christianus’. «‘Метасоциальный’ порядок Средневековья» // Вестник ТвГУ. Серия «Философия». 2017. № 1. С. 48). Причем, нимало не стесняясь, он использует для своего «перевода» раскавыченную цитату из книги В. И. Уколовой, где та не переводит Исидора, но дает свою интерпретацию его концепции ( Уколова В. И. Античное наследие и культура Раннего Средневековья. М., 1989. С. 242).
.
Интервал:
Закладка: