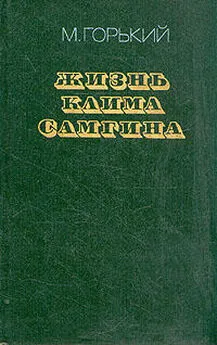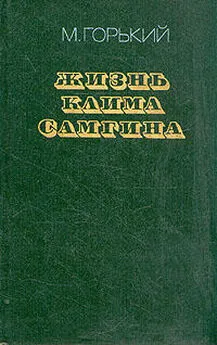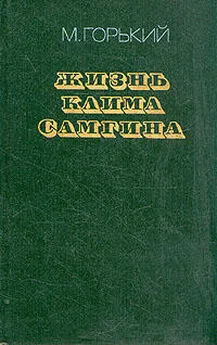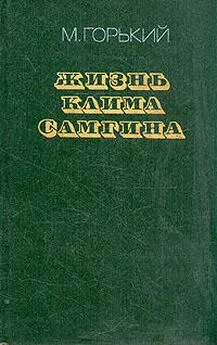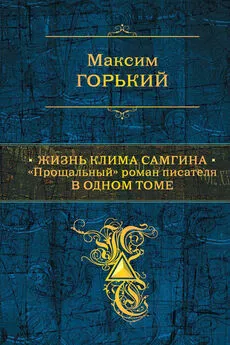Максим Горький - Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая
- Название:Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ГИХЛ
- Год:1952
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Горький - Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая краткое содержание
15 марта 1925 года М. Горький писал С. Цвейгу: «В настоящее время я пишу о тех русских людях, которые, как никто иной, умеют выдумать свою жизнь, выдумать самих себя» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького). «...Очень поглощен работой над романом, который пишу и в котором хочу изобразить тридцать лет жизни русской интеллигенции, – писал М. Горький ему же 14 мая 1925 года. – Эта кропотливая и трудная работа страстно увлекает меня» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького).
«...Пишу нечто «прощальное», некий роман-хронику сорока лет русской жизни. Большая – измеряя фунтами – книга будет, и сидеть мне над нею года полтора. Все наши «ходынки» хочу изобразить, все гекатомбы, принесенные нами в жертву истории за годы с конца 80-х и до 18-го» (Архив А. М. Горького).
Высказывания М. Горького о «Жизни Клима Самгина» имеются в его письмах к писателю С. Н. Сергееву-Ценскому, относящихся к 1927 году, когда первая часть романа только что вышла в свет. «В сущности, – писал М. Горький, – эта книга о невольниках жизни, о бунтаре поневоле...» (из письма от 16 августа. Архив А. М. Горького).
И немного позднее:
«Вы, конечно, верно поняли: Самгин – не герой» (из письма от 8 сентября 1927 года. Архив А. М. Горького).
Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Сей братолюбивый делатель на ниве жизни, господом благословенной, не зарыл в землю талантов, от бога данных ему, а обильно украсил ими тихий град наш на пользу и в поучение нам.
В седой бороде хорошо был виден толстогубый, яркий рот, говорил протопоп как-то не шевеля губами, и, должно быть, от этого слова его, круглые и внятные, плавали в воздухе, точно пузыри.
– Ныне скудоумные и маломысленные, соблазняемые смертным грехом зависти, утверждают, что богатые суть враги людей, забывая умышленно, что не в сокровищах земных спасение душ наших и что все смертию помрем, яко же и сей верный раб Христов...
С неба изливался голубой пламень, раскаляя ослепительно золото ризы, затканной черными крестами; стая белых голубей, кружась, возносилась в голубую бездонность.
– Блинова охота, – вполголоса сказали за спиною Клима.
– Говорят, – у него сын эсер...
– У Блинова?
– У протопопа.
– Не слыхал. Впрочем – что же? Теперь все эсеры... Стоя на чьей-то могиле, адвокат Правдин, говоривший быстрыми словами похвальную речь Варавке, вдруг задорно крикнул:
– Нет, не слово, а – деяние! – и начал громко читать немецкие стихи.
Тусклое солнце висело над кладбищем, освещая, сквозь знойную муть, кресты над могилами и выше всех крестов, на холме, под сенью великолепно пышной березы, – три ствола от одного корня, – фигуру мраморного ангела, очень похожего на больничную сиделку, старую деву.
С кладбища Клим ехал в карете с матерью и Спивак; мать устало и зачем-то в нос жаловалась:
– Жить я здесь больше не могу. Школу я передаю Лизе...
Носовые звуки окрашивали слова ее в злой тон, и, должно быть, заметив это, она стала говорить обыкновенным голосом:
– Я телеграфировала в армию Лидии, но она, должно быть, не получила телеграмму. Как торопятся, – сказала она, показав лорнетом на улицу, где дворники сметали ветки можжевельника и елей в зеленые кучи. – Торопятся забыть, что был Тимофей Варавка, – вздохнула она. – Но это хороший обычай посыпать улицы можжевельником, – уничтожает пыль. Это надо бы делать и во время крестных ходов.
Закрыв глаза, помолчав, она продолжала:
– Костюм сестры милосердия очень идет Лидии, она ведь и по натуре такая... серая. Муж ее, хотя и патриот, но, кажется, сумасшедший.
Самгин понимал: она говорит, чтоб не думать о своем одиночестве, прикрыть свою тоску, но жалости к матери он не чувствовал. От нее сильно пахло туберозами, любимым цветком усопших.
Поминальный обед был устроен в зале купеческого клуба. Драпировки красноватого цвета и обильный жир позолоты стен и потолка придавали залу сходство с мясной лавкой; это подсказал Самгину архитектор Дианин; сидя рядом с ростовщицей Трусовой и аккуратно завертывая в блин розовый кусок семги, он сокрушенно говорил:
– Аппетит у Варавки был велик, а вкуса не было.
– Ты – не ворчи, – посоветовала Трусова. – Ты – ешь больше, даром кормят, – прибавила она, поворачивая нагло выпученные и всех презирающие глаза к столу крупнейших сил города: среди них ослепительно сиял генерал Обухов, в орденах от подбородка до живота, такой усатый и картинно героический, как будто он был создан нарочно для того, чтоб им восхищались дети. Сидел там вице-губернатор, уездный предводитель дворянства и еще человек шесть в мундирах, в орденах. Там же, между городским головой Радеевым, с золотой медалью на красной ленте, и протопопом с крестом на груди, неподвижно, точно каменная, сидела мать. Этот стол был отделен от всех других в зале не только измеримым пространством, но и сознанием сидевших за ним неизмеримости своего значения. За другими столами помещалось с полсотни второстепенных людей; туго застегнутые в сюртуки и шелковые черные платья, они усердно кушали и тихонько урчали.
Встал бывший прокурор Китаев, длинный, чернобородый, с лысиной, протертой в густых волосах, постучал ножом по горлышку бутылки и заговорил осуждающим, холодным голосом:
– В эти дни, когда на востоке судьба против нас...
– А не лазили бы на востоки-то, – пробормотал подрядчик Меркулов, и чей-то угрюмый голос тотчас поддержал его.
– Верно! Дрались бы с кем ближе... Лесопромышленник Усов, поправив пальцем вставные зубы, вздохнул:
– От немцев поворотиться некуда, а тут...
– Договор-то с ними кабальный...
– Вообще живем в кабале у чиновников, верно в газетах пишут, – довольно громко сказал банщик Домогайлов и начал рассказывать о том, как его оштрафовали:
– В простонародной грязно будто бы! Позвольте – как же может быть грязно, ежели там шесть дней в неделю с утра до вечера мылом моются?
Прокурор кончил речь, духовенство запело «Вечную память», все встали; Меркулов подпевал без слов, не открывая рта, а Домогайлов, возведя круглые глаза в лепной потолок, жалобно тянул:
– Па-а-а...
Но и пение ненадолго прекратило ворчливый ропот людей, давно знакомых Самгину, – людей, которых он считал глуповатыми и чуждыми вопросов политики. Странно было слышать и не верилось, что эти анекдотические люди, погруженные в свои мелкие интересы, вдруг расширили их и вот уже говорят о договоре с Германией, о кабале бюрократов, пожалуй, более резко, чем газеты, потому что говорят просто.
Встал Славороссов, держась за крест на груди, откинул космы свои за плечи и величественно поднял звериную голову.
– Исусом, сыном Сираховым, премудро сказано:
«Буй в смехе возносит глас свой; муж разумный едва тихо осклабится»...
– Замолол, краснобай, – сказала Фиона Трусова и, отхлебнув вина, поморщилась. – Винцо-то для бедных родственничков...
Дослушав речь протопопа. Вера Петровна поднялась и пошла к двери, большие люди сопровождали ее, люди поменьше, вставая, кланялись ей, точно игуменье; не отвечая на поклоны, она шагала величественно, за нею, по паркету, влачились траурные плерезы, точно сгущенная тень ее.
«Все еще горда. А – чем гордится?» – подумал Клим.
– Вот и кончено все, – сказала она, сидя в карете. – Вышло вполне прилично. Поминки – азиатский обычай. И – боже мой! – как много едят у нас!
Когда приехали домой, она объявила:
– Я должна отдохнуть.
Самгин, облегченно вздохнув, прошел в свою комнату; там стоял густой запах нафталина. Он открыл окно в сад; на траве под кленом сидел густобровый, вихрастый Аркадий Спивак, прилаживая к птичьей клетке сломанную дверцу, спрашивал свою миловидную няньку:
– А почему, если покойника везут, нельзя прятать руки в карманы? Он помер оттого, что выпали зубы?
Клим закрыл окно, распахнул другое, во двор, и почувствовал, что если он ляжет, то крепко уснет. Он не ошибся.
Затем наступили очень тяжелые дни. Мать как будто решила договорить все не сказанное ею за пятьдесят лет жизни и часами говорила, оскорбление надувая лиловые щеки. Клим заметил, что она почти всегда садится так, чтоб видеть свое отражение в зеркале, и вообще ведет себя так, как будто потеряла уверенность в реальности своей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: