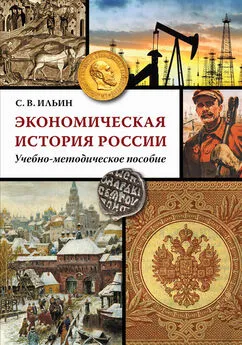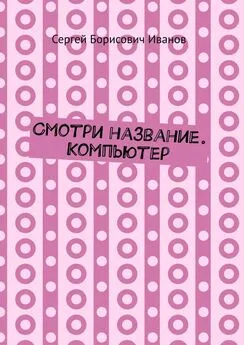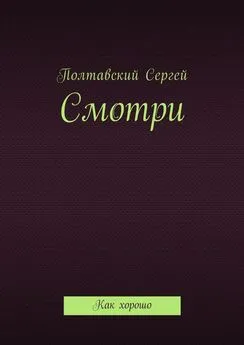Сергей Ильин - Смотри на арлекинов!
- Название:Смотри на арлекинов!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Ильин - Смотри на арлекинов! краткое содержание
«Смотри на арлекинов!» (англ. Look at the Harlequins!) — последний завершенный роман Владимира Набокова. Написан в 1973—1974 годах на английском языке. Впервые издан в 1974 г. в Нью-Йорке.
Роман построен как псевдо-автобиографический. Главный герой — Вадим Вадимович, русско-американский писатель (как и сам Набоков). Несмотря на большое количество параллелей между автором и героем романа, его следует воспринимать не как автобиографию Набокова, а скорее как пародию на автобиографию.
Комментарии (в фигурных скобках) сделаны самим Набоковым и являются частью романа. Примечания (квадратные скобки) добавлены переводчиком.
Смотри на арлекинов! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все это, размазанное по нескольким сеансам, процеживалось с изрядной сноровкой, и уже к концу февраля, когда экземпляр “Красного цилиндра”, безукоризненный типоскрипт, втиснутый в объемистый конверт, был передан из рук (опять же ее) в руки в приемной “Patria” (первейшего из русских журналов Парижа), я ощущал себя завязнувшим в тягостной паутине.
Я не только ни разу не испытал и легчайшего укола желания по отношенью к красавице Любе, но безразличие моих чувств положительно клонилось к отвращению. Чем более нежного волнения изображал ее взор, тем менее джентльменским становился мой отклик. Самая ее утонченность остренько отдавала изысканной пошлостью, овевавшей всю ее личность сладким душком распада. Я начинал с растущим раздражением примечать такие трогательные вещи, как ее аромат – вполне почтенные духи (кажется, “Adoration” [54] ”Преклонение” ( англ .).
), неуверенно забивающие природный запашок редко омываемого тела русской девы: около часа “Adoration” еще как-то держалось, но дальше налеты из подполья становились все более частыми, и когда она подымала руки, чтобы надеть шляпку... ну да что там, намерения у нее были самые лучшие, и надеюсь, что ныне она счастливо нянчит внучат.
Я оказался бы хамом, возьмись я описывать нашу последнюю встречу (1 марта того же года). Довольно сказать, что печатая сделанный мной русский рифмованный перевод “Оды к осени” Китса (“Пора туманов, спелости плодов”), она разрыдалась и часов до восьми вечера изводила меня признаниями и слезами. Когда она, наконец, ушла, я потратил еще битый час, составляя пространное письмо, в котором просил ее больше не возвращаться. Кстати, это было впервые, что она оставила в моей машинке неоконченную страницу. Я ее вынул и вновь обнаружил в своих бумагах несколькими неделями позже и тогда уже сохранил намеренно, потому что докончила эту работу Аннетт (с парочкой опечаток и х-образных забивок в последних строках), – и что-то в этой подмене затронуло мою комбинаторную жилку.
3
В настоящих воспоминаниях мои жены и книги сплетаются в монограмму, подобную водяному знаку или рисунку экслибриса; и пока я пишу эту косвенную автобиографию: косвенную, ибо главный ее предмет – не история обывателя, но миражи романтика и вопросы литературы, – я упорствую в стараниях настолько легко, насколько то в нечеловечьих возможностях, касаться до развития моей душевной болезни. Да, Деменция есть одно из действующих лиц моего рассказа.
К середине тридцатых мало что изменилось в моем здоровьи по сравнению с первой половиной 1922-го года и его ужасными муками. Битва моя с реальной, респектабельной жизнью все еще сводилась к внезапным обманам, к внезапным тасовкам – калейдоскопичным, витражным тасовкам! – раздробленного пространства. Я все еще ощущал, как Тяготение, этот адский и унизительный элемент нашего перцептуального мира, прорастает в меня, подобно чудовищному ножному ногтю, уколами и клиньями невыносимой боли (о какой и помыслить не может счастливый простак, не находящий ничего фантастического и убийственного в побеге карандаша или гроша под что-либо – под стол, за которым проходит жизнь, под кровать, на которой приходит смерть). Я все еще не умел управиться с абстракцией направления в пространстве, так что всякий данный участок мира лежал либо вечно “справа”, либо вечно “слева”, в наилучшем же случае удавалось сменить один на другой усилием воли, грозившим вывихнуть спину. О, как терзали меня люди и вещи, душа моя, я тебе и сказать не могу! Тебя ведь еще и на свете-то не было.
Вспоминаю, как в середине тридцатых, в черном проклятом Париже, я навещал мою дальнюю родственницу (племянницу госпожи СНА!). Чудесная была чудачка. По целым дням она сидела в кресле с прямым прислоном, подвергаясь непрестанным наскокам трех, четырех, более чем четырех умственно отсталых детей, пребывавших под ее платным присмотром (платил Союз Вспомоществования Нуждающимся Русским Дворянкам), пока их родители трудились в местах, которые были не столько тягостны и тоскливы сами по себе, сколь тоскливы и трудны при достижении их общественным транспортом. Я сидел у нее в ногах на старом пуфике. Речи ее текли и текли, безбурно и гладко, и в них отражались светоносные дни, покой, достаток, доброта. И во все это время то один, то другой несчастный маленький монстрик, косоглазый, слюнявый, норовил подобраться к ней, прячась за ширмой или столом, и треснуть по креслу или вцепиться в подол. Когда визг становился слишком уж громок, она только морщилась, что почти не мрачило ее вспоминающей улыбки. Под рукой она держала что-то вроде отгонялки для мух и от случая к случаю взмахивала ею, шугая агрессоров посмелее, но все время, все время продолжалось журчанье ее монолога, и я понимал, что и мне надлежит оставлять без внимания грубый гомон и возню вкруг нее.
Допускаю, что и моя жизнь, мое положение, голоса слов, бывших моей единственной отрадой, и тайная борьбы с неверным порядком вещей, несут какое-то сходство с тяготами той бедной старухи. И поимей в виду, то были мои лучшие дни, когда приходилось отшугивать всего только свору гримасничавших гоблинов.
Живость, сила, ясность моего искусства оставались неповрежденными – хотя бы в какой-то степени. Я наслаждался, я заставлял себя наслаждаться уединеньем труда и тем, гораздо более утонченным уединением, в котором автор взирает по-над ярким щитом манускрипта на рыхлую публику, едва различимую в темной яме.
Дебри пространственных помех, отделявших мою прикроватную лампу от освещенного островка лекционной кафедры, упразднялись заботливым чародейством друзей, помогавшим мне добираться до того или иного удаленного зала без возни с ужасно мелкими, тонкими, липучими лентами автобусных билетов и без рискованных погружений в громовую муть Métro. Как только я надежно водружался на сцене, примостив у груди исписанные или отпечатанные листы, я напрочь забывал о присутствии трех сотен слушателей. Графинчик разбавленной водки, единственная моя лекторская причуда, был также и моей единственной связью с вещественной вселенной. Подобно пятнышку света, брошенному живописцем на бурую бровь какого-нибудь упоенного проповедника, переживающего миг божественного наития, сияние, облекавшее меня, с аккуратизмом оракула выявляло все неисправности текста. Мемуарист отмечает, что я не только порой замедлял чтение, раскупоривая перо и заменяя запятую на точку с запятой, но был также известен и тем, что замирал и хмурился над предложением и перечитывал его, и вычеркивал, и вносил исправления и “заново зачитывал целый абзац с каким-то вызывающим самодовольством”.
Почерк мой хорош для беловых экземпляров, но имея перед собой типоскрипт, я себя чувствую поуютней, а опытной машинистки опять у меня не было. Помещать тот же самый призыв в ту же газету было слишком рискованно: а ну как он сызнова приведет ко мне Любу, пышущую обновленной надеждой, и сызнова раскрутит все то же чертово колесо?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: