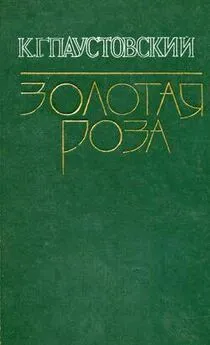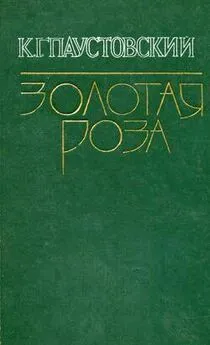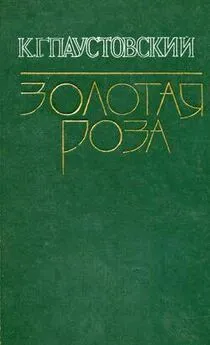Константин Паустовский - Беспокойная юность
- Название:Беспокойная юность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-17-038581-1, 5-271-14777-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Паустовский - Беспокойная юность краткое содержание
«Беспокойная юность» — вторая книга автобиографической «Повести о жизни» К.Г.Паустовского.
Беспокойная юность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Воровали всё, вплоть до старых гвоздей и старых рогож.
Это делалось внизу. А что происходило вверху, об этом можно было только догадываться.
Все темное, мелкое и алчное было взвинчено до истерии примером Распутина. О нем говорили всюду.
Тобольский конокрад, кулак с блудливыми глазами, властвовал над страной, сидел на российском престоле.
— Чем мы хуже Гришки Распутина, — гоготали ломовые извозчики и свистели вслед проходящим женщинам. — Навались, ребята! Тащи, пока есть что брать! Григорий Ефимович за нас постоит. Небось знаем, как ханжу варят, как коней по ярмаркам воруют.
У всей этой банды воров было одно нерушимое святое правило — делиться. Делиться с каждым, кто замешан в краже, давать ему его «законную» долю.
А склады! Я видел огромные подвалы, набитые вещами для армии: папахами, что расползались в руках, продувными шинелями из сукна, похожего на рядно, фуражками, потерявшими всякую форму, с поломанными козырьками и кокардами, бутсами с подошвами из горелой кожи, бязевым бельем, раздиравшим до крови тело — столько в этой бязи было каких-то колючих остей.
Все это зашивали в пахучие новые рогожки и отправляли на фронт. Пожалуй, рогожи были единственным добротным товаром в этом навале гнилья и брака.
Я не мог дождаться окончания отпуска, чтобы поскорее вернуться в отряд. Издали он стал мне родным и милым. Казалось, что только там, на фронте, собралось все, что было в России здорового и честного, а здесь — все уже сгнило.
И зима в Москве была под стать этим мыслям — с частыми оттепелями, с грязным снегом, моросящими дождями и гололедицей.
Пруды в Зоологическом саду оттаяли. На одном из них пронзительно кричала, как бы спрашивая: «Что же это? Боже мой, что же это?» — какая-то водяная птица. Крик ее был хорошо слышен в квартире.
Я был занят только первую половину дня, рано возвращался домой, съедал скудный обед и уходил в свою клетушку.
Мама с Галей шили, готовясь к отъезду. До половины ночи торопливо строчила швейная машина. Полы были засыпаны обрезками и нитками.
Я сидел у себя и писал. Писал о войне, о своем поколении. Я был уверен, что это поколение перекроит мир.
В поколении этом было много непокоя и мечтательности. Я простодушно считал, что эти свойства не позволят моему поколению прожить бесславную жизнь и уйти, ничего не свершив, а только, как любил говорить Романин, «начадив на всю вселенную».
Несмотря на эту уверенность, я все яснее видел, что рядом с этим поколением интеллигентов и людей, ставивших себя вне какого бы то ни было класса, считавших себя «солью земли», живет напряженной, но пока еще не известной мне жизнью огромный слой народа, миллионы тех людей, что сами называют себя «наш брат рабочий».
У них была подлинная жизненная сила, нетерпимость, трезвая правда, выношенная на своем трудовом горбу. Эту правду нельзя было заглушить никакими самыми прекрасными мелодиями стихов и затемнить никакой туманной философией модного в то время Бергсона. Ее присутствие чувствовалось всюду, как некий упорный и напряженный взгляд. И становилось совершенно понятно, что, не определив своего отношения к рабочему классу, к его борьбе, к его чаяниям, уже нельзя спокойно жить и работать в России.
Я начал писать повесть о молодом человеке моего времени. Я писал ее долго и медленно. Она странствовала со мной все годы революции и гражданской войны и долго вылеживалась. В конце концов я напечатал ее под названием «Романтики», но это было гораздо позже, в тридцатых годах.
Тогда же я написал несколько стихотворений и послал их одному крупному поэту. Я не надеялся, что он мне ответит, но он ответил. Я получил от него открытку. На ней крупным почерком было написано: «Вы живете напетым со стороны».
Эта фраза занимала всю открытку.
В то время я жил двойной жизнью — подлинной и вымышленной. О подлинной жизни я пишу в этой книге. Вымышленная жизнь существовала независимо от подлинной и добавляла к ней все, чего в этой подлинной жизни не было и быть не могло. Все, что казалось мне заманчивым и прекрасным.
Вымышленная жизнь проходила в скитаниях, во встречах с необыкновенными людьми, в удивительных событиях. Она была окутана дымкой любви. Это был, по существу, длинный и связный сон.
Конечно, сейчас можно снисходительно улыбаться над тогдашним моим состоянием. Это легче всего. Мы умудрены опытом и как будто имеем право на такую улыбку. Так, по крайней мере, думают трезвые люди, считающие, что именно они занимаются единственно серьезным делом.
Но по настоящему счету они не имеют права на эту улыбку. Они не имеют права посмеиваться над теми молодыми снами, которые заронили во многие души первые зерна поэзии. В этих снах, в этих выдумках была чистота, было благородство, и отблеск этих качеств лег на всю жизнь людей.
Каждый, кто обладал этим свойством в юности, согласится со мной, что он был владетелем неисчерпаемых богатств.
Он владел миром. Для него не существовало границ ни во времени, ни в пространстве. Сейчас он мог дышать грибным воздухом тайги, а через минуту воздухом парижских бульваров с их догорающими огнями. Он мог беседовать с Гюго и Лермонтовым, с Петром Первым и Гарибальди. Он мог сложить свою любовь к ногам семнадцатилетней гимназистки в коричневом форменном платье, теребящей от волнения косы, так же как и к ногам Изольды. Он мог вместе с Миклухо-Маклаем жить в тропических лесах Новой Гвинеи и скакать с Пушкиным в Эрзрум. Он мог заседать в Конвенте и прорубать первые дороги в лесах Флориды. Он мог сидеть в долговой тюрьме с отцом крошки Доррит и сопровождать в Англию прах Байрона.
Границ не было. Я хотел бы увидеть скептика, который не согласился бы с тем, что этот второй мир обогащает человека и отзывается на его мыслях и поступках в жизни.
Я писал об этом. Писал я на широком подоконнике. Стола у меня не было. Я часто отрывался, смотрел за окно и видел ветки лип в Зоологическом саду, покрытые смерзшимся снегом. И слышал, как на пруду тоскливо и безответно кричала птица. «Что же это? Боже мой, что же это?»
В разгар моих писаний пришло письмо из Союза городов. Меня вызывал к себе главный уполномоченный, известный деятель кадетской партии Щепкин.
Наутро я пошел к Щепкину. Союз городов помещался в большом доме рядом с Художественным театром.
Меня встретил маленький серый старик, довольно добродушного вида, но с брезгливым выражением на лице.
— Вот что, милый юноша, — сказал он. — Должен сообщить вам пренеприятное известие.
Он сказал эти слова из гоголевского «Ревизора», и, очевидно, это ему самому очень понравилось, потому что он закашлялся, замахал в воздухе пухлыми руками и повторил:
— Пренеприятное известие! Во время вашего пребывания в нашем санитарном отряде в Замирье туда приезжал государь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: