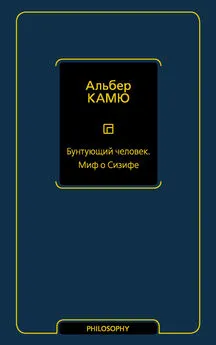Альбер Камю - Первый человек
- Название:Первый человек
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Paris: Gallimard, 1994
- Год:1994
- Город:Paris
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альбер Камю - Первый человек краткое содержание
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
Первый человек - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
[70] (a) Толстой или Горький (I) Отец. Из этой среды вышел Достоевский (II) Сын, который, возвращаясь к истокам, становится писателем (III) Мать.
[71] (b) Мсье Жермен — Лицей — религия — смерть бабушки — в конце рука Эрнеста?
Однако Эрнест был способен и на вспышки ярости, такой же спонтанной и необузданной, как его радость. Урезонивать его или даже просто пытаться вставить слово не имело никакого смысла: это было все равно, что спорить со стихией. Когда собирается гроза, надо ее переждать. Другого пути нет. Как у многих глухих, у Эрнеста было прекрасное обоняние (не считая тех случаев, когда речь шла о его собаке). Это свойство доставляло ему немало радостей, когда он нюхал гороховый суп или свои любимые блюда — кальмаров в собственном соку, омлет с сосисками или рагу из говяжьих потрохов, куда входили сердце и легкие, — шедевр бабушкиной кулинарии, «бургиньон» для бедных, который, благодаря его дешевизне, часто бывал у них на столе, — или когда опрыскивался по воскресеньям дешевым одеколоном или лосьоном под названием [Помперо] (им пользовалась и мать Жака), с нежным и стойким запахом бергамота, постоянно витавшим в столовой и в волосах Эрнеста, который, прежде чем подушиться, нюхал флакон с выражением блаженства на лице… Но столь обостренная чувствительность причиняла ему и неудобства. Он не выносил некоторых запахов, неощутимых для человека с нормальным обонянием. Например, у него была привычка обнюхивать перед едой свою тарелку, и он ужасно сердился, если, как он утверждал, она пахла яичницей. Бабушка брала у него подозрительную тарелку, нюхала ее, объявляла, что она ничем не пахнет, и передавала дочери, чтобы та подтвердила. Катрин Кормери поводила изящным носом над фарфором и, даже не принюхиваясь, мягко говорила: нет, тарелка ничем не пахнет. Дабы прийти к окончательному мнению, они все обнюхивали по очереди свои тарелки, за исключением детей — дети ели из металлических мисок. (Почему — оставалось загадкой, возможно, из-за нехватки посуды, а может быть, как однажды заявила бабушка, чтобы они ничего не разбили, хотя ни он, ни брат никогда не были растяпами. Но семейные традиции чаще всего не имеют оснований более веских, и меня весьма забавляют этнологи, которые пытаются отыскать смысл каких-то непонятных ритуалов. Подлинная разгадка в большинстве случаев заключается в том, что смысла не существует вовсе.) Наконец бабушка выносила окончательный вердикт: тарелка не пахнет. Собственно, к иному выводу бабушка и не могла прийти, особенно если она сама мыла накануне посуду. И тут Эрнест впадал в настоящую ярость, ибо ему к тому же не хватало слов, чтобы доказать свою правоту [72] (a) микротрагедии.
. Разражалась гроза, и надо было дать ей отгреметь, — в итоге, он либо вовсе отказывался обедать, либо с отвращением ковырялся в тарелке, которую бабушка, однако, всегда заменяла, либо просто выскакивал из-за стола и бросался вон из дому, объявив, что идет в ресторан, где, впрочем, никогда в жизни не бывал, равно как и все остальные члены семьи, хотя бабушка, если кто-нибудь за столом выражал хоть малейшее недовольство, не упускала случая произнести сакраментальную фразу: «Иди в ресторан!» Ресторан представлялся им вследствие этого неким дьявольским заведением, окруженным обманчивым ореолом соблазна, где всё кажется доступным, если в кармане есть деньги, но за первые же богопротивные наслаждения, полученные там, грешник рано или поздно жестоко расплачивается несварением желудка. Как бы то ни было, бабушка никогда не спорила с Эрнестом во время таких приступов. Во-первых, она знала, что это бесполезно, во-вторых, всегда питала к младшему сыну особую слабость, которую Жак, прочитав некоторое количество книг, склонен был отнести на счет его неполноценности (хотя существует масса примеров, когда родители, вопреки распространенному предрассудку, отворачиваются от неполноценных детей), и только позднее Жак нашел более верное объяснение, перехватив однажды бабушкин взгляд, смягченный не свойственной ей нежностью: он обернулся и увидел дядю, надевавшего свой воскресный пиджак. В темном он казался еще стройнее — гладко выбритый, с тонким юным лицом, тщательно причесанный, великолепно выглядевший в свежей рубашке и галстуке, он был похож на принаряженного греческого пастуха, и Жак вдруг впервые заметил, насколько Эрнест красив. Тогда он наконец осознал, что бабушка любит своего сына физически, что она, как и все вокруг, влюблена в его фацию и силу и ее непостижимая слабость к нему, в сущности, вполне понятна — все мы подвержены ей в той или иной мере, причем отдаемся ей с наслаждением, и только она делает наш мир переносимым, ибо это есть влечение к красоте.
Жак помнил и более серьезный случай, когда Эрнест впал в ярость и это едва не кончилось дракой с дядей Жозефеном, работавшим на железной дороге. Жозефен не ночевал у них в доме (да и где бы он там спал?). У него была комната неподалеку (куда он, впрочем, никого из них не приглашал, и Жак никогда в жизни там не был), но столовался он у бабушки, выдавая ей на это ежемесячно небольшие суммы. Жозефен не походил на брата ни в чем. Он был старше лет на десять, носил короткие усики и стрижку бобриком, был более крупным, скрытным и, главное, более расчетливым. Эрнест обвинял его в жадности. В его устах это звучало просто: «Он мзабит». Мзабитами он называл бакалейщиков, действительно прибывших из Мзаба: они годами жили впроголодь, без женщин, ютясь в комнатушках за лавкой, где стоял неистребимый запах корицы и растительного масла, и все это ради того, чтобы прокормить свои семьи в городах Мзаба, посреди пустыни, где это племя еретиков, что-то вроде исламских пуритан, жестоко преследуемых официальными религиозными властями, обосновалось несколько веков назад, избрав для жизни такое место, которое у них наверняка никто не стал бы оспаривать, ибо там не было ничего, кроме камней, и находилось оно так же далеко от полуцивилизованного мира побережья, как какая-нибудь мертвая, покрытая кратерами планета от нашей земли; это однако не помешало им основать там пять городов вокруг скудных источников, придумав для своего мужского населения странную аскезу — заниматься торговлей на побережье: здоровые мужчины должны были добывать там средства, дабы поддерживать это порождение ума, и только ума, пока им на смену не прибудут другие, чтобы позволить им наконец вернуться в свои далекие города, обнесенные укреплениями из земли и глины, и провести остаток жизни, наслаждаясь завоеванным для веры царством. Убогую жизнь и скупость этих людей можно было понять только в связи с их высшими целями. Но рабочее население квартала, не знавшее ни ислама, ни его ересей, видело только то, что лежало на поверхности. Поэтому для Эрнеста, как и для всех прочих, сравнить брата с мзабитом означало то же самое, что сравнить его с Гарпагоном. Надо сказать, Жозефен действительно был довольно прижимист, в противоположность Эрнесту, у которого, как говорила бабушка, была «щедрая рука». (Правда, когда она сердилась на него, то, напротив, кричала, что руки у него дырявые.) Однако помимо разницы в характерах, имелось еще то обстоятельство, что Жозефен зарабатывал чуть больше, чем Эрнест, а щедрость всегда легче дается тому, у кого ничего нет. Мало кто остается расточительным, получив для этого возможность. Такие люди — цари жизни, и перед ними следует снимать шляпу. Жозефен, конечно, в золоте не купался, но, кроме зарплаты, которую он расходовал весьма аккуратно (он пользовался так называемым методом раскладывания по конвертам, но, будучи слишком скупым, чтобы покупать настоящие конверты, делал их сам из газеты или из оберточной бумаги), у него был и дополнительный доход благодаря тщательно продуманным торговым операциям. Как железнодорожник, он имел право два раза в месяц на бесплатный проезд. Пользуясь этим, он каждые две недели по воскресеньям садился на поезд и отправлялся, как он говорил, в «глубинку», где обходил арабские фермы и покупал по дешевке яйца, кроликов или чахлых цыплят. Все это он привозил в город и продавал соседям с умеренной наценкой. Жизнь его была во всех отношениях упорядоченной. Он никогда не был замечен в связях с женщинами. Разумеется, полная рабочая неделя и торговые вылазки по воскресеньям не оставляли ему досуга, коего требует сладострастие. Однако он всегда говорил, что женится в сорок лет на женщине с хорошим положением. До той поры он собирался снимать комнату, копить деньги и жить наполовину у матери. Как ни странно, несмотря на свою непривлекательность, он сумел осуществить это намерение и действительно женился на учительнице музыки, которая была вовсе не дурна собой и подарила ему, вместе со своей мебелью, несколько лет семейного счастья. Правда, в итоге Жозефену удалось сохранить при себе только мебель, а жену нет. Но это уже другая история, а пока, строя планы, Жозефен не учел одного: что после ссоры с Этьеном ему придется прекратить столоваться у матери и прибегнуть к разорительным услугам ресторана. Жак не помнил, из-за чего произошел скандал. Между родственниками существовали какие-то загадочные раздоры, суть которых никто толком не смог бы объяснить, тем более, что у них у всех было плохо с памятью, и они, забыв причины, механически блюли следствия, раз и навсегда принятые и не подлежащие обсуждению. Жак помнил только, что Эрнест стоял в тот день перед накрытым столом и выкрикивал какие-то ругательства, сплошь непонятные, за исключением слова «мзабит», в адрес своего брата, а тот сидел и невозмутимо продолжал есть. Тогда Эрнест ударил его по лицу. Жозефен вскочил и отступил назад, чтобы на него броситься. Но бабушка уже вцепилась в Эрнеста, а мать Жака, без кровинки в лице, обхватила сзади Жозефена. «Не трогай его, не трогай его», — повторяла она, а дети смотрели на них, оцепенев и разинув рты, и слушали поток яростной брани, остававшейся без ответа, пока Жозефен не сказал наконец со злостью: «Он просто животное. Неохота связываться!» — после чего, отступая, обогнул стол, а бабушка изо всех сил держала Эрнеста, чтобы тот не кинулся вслед за братом. Даже после того, как хлопнула входная дверь, Эрнест все еще продолжал бушевать. «Пусти, пусти, — кричал он бабушке, — а то будет больно». Но она схватила его за волосы и хорошенько тряхнула: «Ты что, на мать руку поднимаешь?» Эрнест рухнул на стул и заплакал: «Нет, нет, на тебя — нет. Ты для меня все равно что Господь Бог!» Мать Жака пошла спать, так и не доев свой ужин, а назавтра у нее болела голова. Жозефен с тех пор больше не приходил, разве что изредка навестить бабушку, и то когда был уверен, что Эрнеста нет дома.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

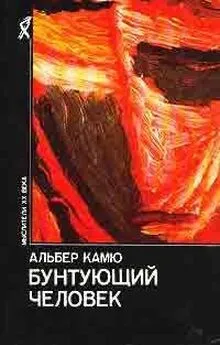

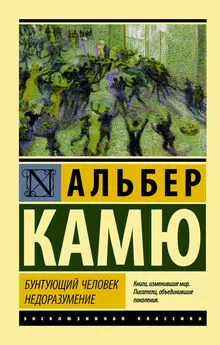
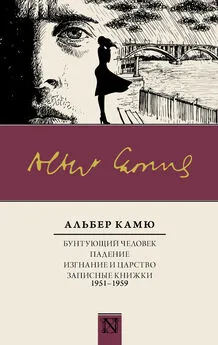
![Альбер Камю - Бунтующий человек. Недоразумение [сборник]](/books/1100727/alber-kamyu-buntuyuchij-chelovek-nedorazumenie-sbor.webp)