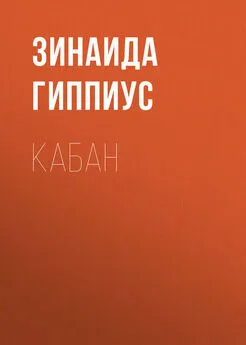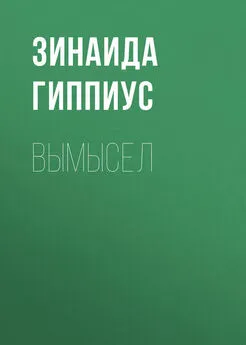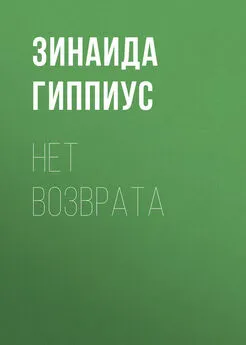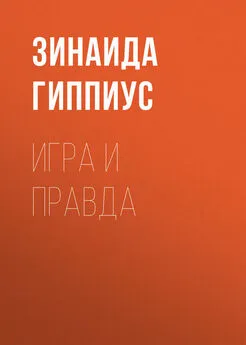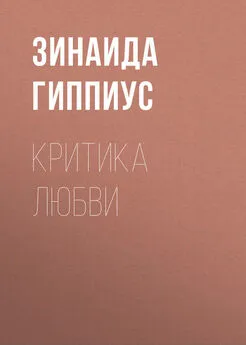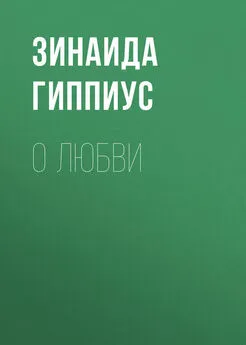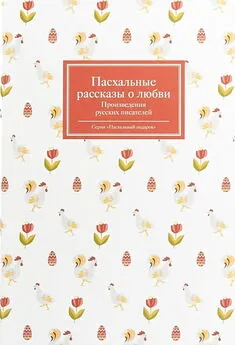Зинаида Гиппиус - Арифметика любви
- Название:Арифметика любви
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Росток
- Год:2002
- ISBN:5-94668-015-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зинаида Гиппиус - Арифметика любви краткое содержание
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.
Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Арифметика любви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Марк Аврелий на предвечернем небе. Что за величие покоя! В одном мановении руки — мир всего мира… Обогнув М. Аврелия, идем по узкой улочке, меж старых дворцов. Мы уже на знаменитой скале, сейчас дверь В. И-ва, но невозможно не остановиться на этой маленькой открытой площадке: под нами Форум, далее — Колизей, и все — в оранжевом пылании заката. Голос вечернего колокола, Ave Maria…
С крутой улочки в дом, где живет В. И., нет ступеней. Но старые дома на Тарпейской скале — с неожиданностями. Стоит пройти только через переднюю и маленькую столовую на балкончик — там провал. И длиннейшая, по наружной стене, лестница: шаткая, коленчатая, со сквозными ступенями, похожая на пожарную. Она спускается в густой зеленый садик. Но пусть об этом садике скажет сам его хозяин-поэт, в стихотворении, только что написанном и посвященном своей постоянной сотруднице, помощнице в научных работах. (Она же, эта изумительная женщина, и «гений семьи»: с В. И. живет его милая, тихоликая дочь, музыкантша, профессор римской консерватории, и сын студент.)
Вот эти стихи:
Журчливый садик, и за ним
Твои нагие мощи, Рим!
В нем лавр, смоковницы и розы
И в гроздиях тяжелых лозы.
Над ним, меж книг, единый сон
Двух сливших за рекой времен
Две памяти молитв созвучных
Двух спутников, двух неразлучных.
Сквозь сон эфирный лицезрим
Твои нагие мощи, Рим.
А струйки, в зарослях играя,
Журчат свой сон земного рая.
Кто из петербуржцев-писателей не помнит знаменитую «башню» на Таврической и ее хозяина? Минули годы (и какие!), все изменилось. Вместо башни — Тарпейская скала и «нагие мощи» Рима. Вместо шумного роя новейших поэтов — за круглым чайным столом сидит какой-нибудь молодой семинарист в черной ряске, или итальянский ученый. Иные удостаиваются «а parte» [148] уединенная беседа (ит.).
в узком, заставленном книгами, кабинете хозяина… Все изменилось вокруг, — а он сам? Так ли уж изменился? Правда, он теперь католик; но эта перемена в нем мало чувствуется. Правда, золотых кудрей уже нет; но, седовласый, он стал больше походить на древнего мудреца (или на старого немецкого философа). У него те же мягкие, чрезвычайно мягкие, любезные манеры, такие же внимательные, живые глаза. И — живой отклик на все.
Мы отвыкли от встреч с людьми настоящей, хорошей культуры. А какое это отдохновение! Вяч. И-в, конечно, и «кладезь учености», но не в том главное, а в том, что заранее знаешь: с ним можно говорить решительно обо всем; он поймет значительность всякого вопроса, в любой области. Как он сам на данный вопрос отвечает — уже не столь важно: мы иногда не соглашаемся, спорим, но спора не делим; взгляд В. И. сам по себе всегда интересен, любопытен; споры же — бесполезнейшая вещь на свете.
Но особенно живо воскресла передо мною «башня», когда мы заговаривали о поэзии, о стихах. Мы привезли в тарпейское уединенье несколько томиков современных парижских поэтов. Утонченный их разбор, давший повод к длинным речам о стихах, о стихосложении вообще, — как это было похоже на В. И. тридцать лет тому назад! Скажем правду: в этом человеке высокой и всесторонней культуры, в этом ученом и философе, до сих пор живет «эстет» начала века. И, может быть, «эстета» в себе он больше всего и любит.
Невольная зависть. В самом деле, что такое новейшее наше разочарование в эстетизме, в литературе, в силе слова? Ведь это, пожалуй, только дань безумным «темпам» нашего времени, погоне за всяческой «актуальностью». Искусство требует мира и тишины; а нам некогда слушать голос муз, мы слушаем радио.
Так или иначе, жители Тарпейской скалы счастливее многих из нас. У них и садик, «земной рай», и музыка, и книги, и научный труд, и стихи, a Ave Maria из-за римского Форума…
Но не будем завидовать. Лучше порадуемся за них.
Рим. Октябрь, 37 г.
ЗАГАДКА НЕКРАСОВА
…Что же случилось со мною? Как разгадаю себя?..
НекрасовНекрасов, для людей моего поколения, — детство; самое раннее, почти младенчество. Некрасов, — без имени, конечно, — в песенках: дедушка за винтом, мурлыкающий приятно-непонятное: «разбиты все привязанности…» или тетя за роялью: «жадно глядишь на дорогу…», «молодость сгубила… два-три цветка…». И сколько еще другого всякого пения! Это правда, что главное свойство поэзии Некрасова — «песенность». Не напевность, о, нет! а именно песенность (лучших вещей, конечно): критика отметила ее справедливо. В песнях он тогда еще и оставался живым, да, пожалуй, в разных «крылатых» словечках и строках, которые мы слышали от «больших» и так запомнили (детская память!), что и через тридцать лет встречаем, словно старых знакомых. Но и только. Во времена моего — нашего — детства Некрасов, думается, был уже на кончине. Научившись читать, мы читали его в хрестоматиях, и даже книжки его, но читали (я и мои сверстники) не как стихи, а как рассказы. «Влас», «Коробейники», «Саша» — разве не рассказы, довольно интересные? Стихи же совсем другое. Стихи — это Лермонтов, но и какая-нибудь случайная дрянь в случайном томике, казавшаяся, по тогдашнему чувству, ближе к Лермонтову, чем к Некрасову. Сатиры его даже меня, с моей ранней склонностью к сатирическим стихам, к эпиграмме, глубоко не интересовали.
Впрочем, говоря о Некрасове в своем — нашем — детстве, я не останавливаюсь на частностях, беру общее положение.
Когда мы подросли, когда моими сверстниками (немного старшими) оказались студенты, эти студенты были, в громадном большинстве, еще типичная, буйно-«либеральная» (как тогда говорили) молодежь; в ней чувствовалась писаревщина, всякие «заветы», что угодно; влияния же Некрасова, непосредственного во всяком случае, совсем не замечалось. Он со своей «Музой гнева и печали» был забыт. Народовольчество искало своих форм, и дух его был далек от поэтических стенаний и умилений Некрасова. Молодежь распевала при случае, не «Бурлаков» (которых, кстати, уже и не было), не «Укажи мне такую обитель», а разве «Есть на Волге утес…» (и чье оно, это несчастное стихотворение?). Если же, на «либеральных» вечерах, ей приходилось слушать стихи — бурно аплодировала белой бороде Плещеева (петрашевец!), его стихам «Вперед без страха и сомненья!». Пользовалось успехом и «Море» Вейнберга, обличающее всякую «усталость и болезненную вялость».
Все это были отголоски шестидесятничества, когда литература, шедшая до того времени рука об руку с общественностью, была затоплена более высокой ее волной. И надолго. А почему забыли Некрасова, который считался столько же «общественником», сколько поэтом, на это есть свои, довольно сложные, причины.
Лишь в конце прошлого века литература начала свое мучительное возрождение. Высвободиться она могла только для нового, отдельного существования, с резким отталкиванием от общественности. Процесс нормальный, хотя подчас и уродливый. Но в литературе возрождавшейся Некрасов оставался таким же забытым, как в современной общественности: эта продолжала свой путь, занятая дальнейшим «оформлением заветов». К новой литературе отношения не имела; или, при случае, имела враждебное.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: