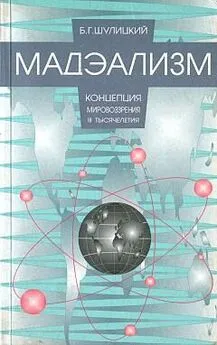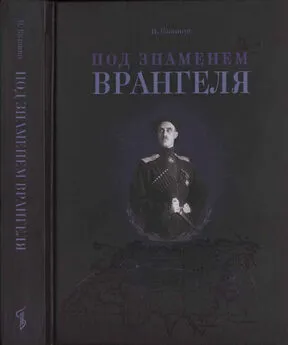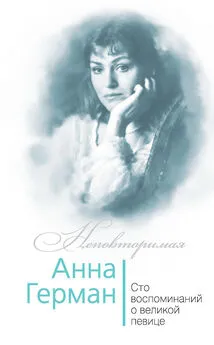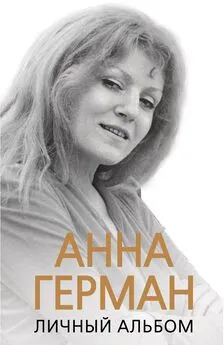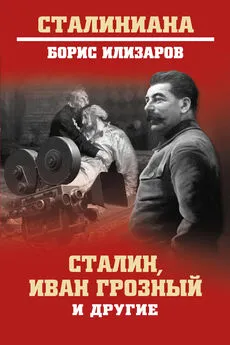Борис Кундрюцков - Казак Иван Ильич Гаморкин. Бесхитростные заметки о нем, кума его, Кондрата Евграфовича Кудрявова
- Название:Казак Иван Ильич Гаморкин. Бесхитростные заметки о нем, кума его, Кондрата Евграфовича Кудрявова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1930
- Город:Белград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Кундрюцков - Казак Иван Ильич Гаморкин. Бесхитростные заметки о нем, кума его, Кондрата Евграфовича Кудрявова краткое содержание
Казачий эпос в обстановке русского зарубежья. Литература русских казаков.
Казак Иван Ильич Гаморкин. Бесхитростные заметки о нем, кума его, Кондрата Евграфовича Кудрявова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Вер-но-о! — поддержал Петухой.
— Верррно-о! — глядя радостно на Гаморкина, учителя моего, вторил я во всё горло.
— Разве это так возможно, Иван Ильич? А? Возможно ли это так? Меня из Духовного за казачье звание выперли. Куда не повернись, везде у нас на Дону лапти-чиновники земства, и прочее понатыкано. Включая и „атамана". А теперь не успел я пай обделать и курень соорудить и женой обзавестись и пай до дела обработать — на войну погонят. Еще народов завоевывать и кровушку чужую пить. Нашей мало… Что же мы? Мы-то? Не казаки што-ль? Отвечай, отец Ильич, — не ккааазза-кки-и? Ых-трра-тудыт твою…
— Что ты-ы? — успокаивал меня Гаморкин — ложку-то, ложку, погляди, сломал!
Глядь я, в самом деле, ложку я, об стол колотя, сломал и аладьи свои вывернул, растеклось масло Черным морем.
— Ну-у, казак…
Улыбался Гаморкин. Глаза у него сияли и с ужасным участием смотрели на меня. Все лицо его светилось, как мне показалось, некоторой гордостью.
— А Евграфа Грузинова забыл?
— Помню.
— А Кондратия Афанасьевича Булавина?
— Помню.
— А Степана Тимофеевича?
— Помню.
— А Емельку Пугачева, а Самойлова? А Уса? А Шелудяка? А…
— Всех помню, не для чего перечислять-то.
— Не боишься? как и они?
Сейчас на виселицу. Веди-и, ну!
Петровна смотрела на меня с затуманенными глазами; Гаморкин прямо, на месте не сидел — то грудь расправлял, то ус к уху тянул, то жене подмигивал. Петухой, подмяв под себя картуз, улыбался.
Встретившись с ним глазами Гаморкин неожиданно вспомнил:
— Где твой картуз? Давай-ка его сюда. Вот мы его научим.
Лакированный козырек лопнул, согнутый пополам.
Иван Ильич выбросил картуз в окно.
— Так лети, да не ворочайся. А крестами нас под Иркутском не запугаешь, видали мы их и в Донской земле, а вот до конца мира поглядим — еще, кто на Дону хозяевами будет?
— Да подойди-же… Не боись… — уговаривал, вернувшийся с фронта в отпуск, Иван Ильич, сына своего Фомку, уговаривал так, будто бутуз-сынишка мог уже свободно ходить по куреню.
От радостной встречи, после долгой разлуки с нами, и от множества выпитого вина, даже в пот его вдарило.
— Ну, что-ж ты выкабениваишься, а? Ты-жа меня знаешь. Ведь я… — Гаморкин оттопырил палец и ткнул им себя в грудь, — Я, то-есть, Иван Ильич Гаморкин — твой отец. Папанька, стало быть. Самый настоящий отец.
Мать Оомки, Настасья Петровна, раньше, когда-то, в более лучшие времена, румяная, как наливное яблочко, пышная, как Ягорлыц-кая оладья, рассыпчатая, как Арчадинские пески, а теперь, значительно похудевшая и побледневшая, усмехаясь смотрела, то на мужа, то на сына своего дитятю с большими, пугливыми глазами.
— Лу-упо-гла-а-зай! — мотал Гаморкин головой, довольный тем, что у него теперь есть сын-казаченок, и такой уже большой.
— И когда он нарости успел?
Оомка имел крепкие ноги и бледное лицо. Бледность явилась результатом того, что мать, уходя часто на работу, в отсутствии Ильича, ушедшаго на Румынский фронт, оставляла его одного в душном курене. Прикреплен был к куреню Фомка веревкой. Способ, даже очень простой. К потолку за крюк была привязана бичева, над полом устроена тугая петля, в петлю клалась подушка, на подушку Фомка, животом вниз — хочешь ходи, учись, хочешь, так просто, виси. Иногда моя Прасковья забирала Эомку ко мне.
Касаясь пола ногами, Эомка пытался делать шаг, да, сорвавшись, напоминая лягушку поджатыми ногами, качался из стороны в сторону; смотрел задумчиво на глинянный пол — удивлялся поди, как пол убегал под ним, то вперед, то назад.
Незавидная жизнь. Карусель тебе, не карусель — качеля, не качеля, так, черт его знает, что такое.
Когда стал Фомка мальчёнком, припоминаю, любил он и в мыслях летать. Чего-чего воспитание не сделает. Подумаешь, и-и-и, Господи, Боже мой, чего-чего. Лёт его мысленный, фантазия его, Фомкина, восторгали после и Ильича, и Петровну, и меня.
— Что может с него получиться? — вопрошали мы себя.
Это было потом, спустя несколько лет, а сейчас Фомка, смотря на вспотевшее лицо батюшки св его в черной папахе, лицо ему совсем незнакомое и к тому же называвшее себя каким-то „отцом", раскрывал широко ресницы и с ужасом взирал, то на облупленный нос, то на облезлое серебро катушек на мундире, то на короткие, толстые, похожие на обрубки, пальцы Ивана Ильича.
Иван Ильич продолжал:
— Да-а… Твое, значит, основание мной заложено. И мать твоя — Настасья Петровна. Понял?
Я видел, что Фомке страшно, что Фомка хочет реветь. Тень тоски, как птица крылами задевает небеса, тушила первоначальный испуг и огоньки в глазах ребенка переломились и расплылись в обильно выступивших, накипевших слезах.
Гаморкин тоже заметил.
— Ты смотри у меня, не реви… Оно, конечно. Жить не всем вольготно и прочее такое, понимаешь? Особенно нам Казачьему Народу, нам подчас и очень даже тяжело. Но из соображениев, ты должен все уразуметь. Должен, так сказать, определить — что для тебя самое главное.
Ну, что? Сейчас вот? Скажу, а ты вслушайся, ето табе отец говорит, не кто друой, а родный твой отец — табе, ростить надо в первую голову. Рости себе, знай и… молчи. Рости и помалкивай. Будет время — многого нахватаешься и, кто знает, может Казачество в тебе спасение найдет. А твое заложение было и. так сказать хвундамент, во любви чистой и во согласии. Мамка тебя выносила отцу на радость, и не даром, наверно, мучилась и на блювотину тянуло. А благословил наш семейный союз отец Никодим — страшшнай поп, и отец диакон…
Гаморкин взглянул на дьякона веселыми глазами, а тот в тон ему:
— Вениамин!
Дьякон выташил изо рта, из под усов, кусок таранки, отер широким рукавом подрясника соленые, жирные губы и заговорил, по временам заливая слова водкой:
— А по крещении… глоток… наречен бысть… еще один… Фома-а.
Закусывая соленым огурцом, дьякон засмеялся:
— По-гречески же фома, значит верти-хвост.
Фомка тут разрыдался — то-ль обиделся, то-ль пожалел, что его имя в греческом переводе столь скверное значение имеет.
Петровна ходила как пьяная, хоть ничего и не пила, вокруг мужа, и только шикнула на сына; от этого шиканья Фомка заревел еще пуще.
От него все отвернулись и перестали обращать внимание. Все, кто были в Гаморкинском курене, а были: сам Гаморкин, дьякон, дедушка Панкрат (дядя Настасьи Петровны), Павел Иванович Лазарев и жена его Ольга Васильевна, сидевшая в сторонке, Петухой, приехавший по столь торжественному случаю, Станичный Атаман Ротов, Фрол Петрович и Писарь с простреленным ухом, без фамилии, а с прозвищем „Титяй", я — Кондрат Евграфович Кудрявов и мать Фомки, Настасья Петровна с моей Прасковьей. Почти все мы пили вино и водку. Пили по одиночке и все сразу. Говорили все шумно и горячо. Я же наблюдал за Фомкой. Он, проплакавшись, стал смотреть на всю компанию во все глаза.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: