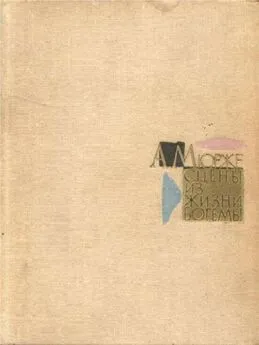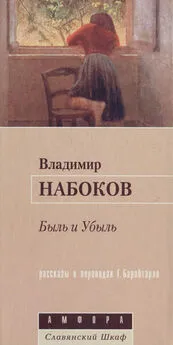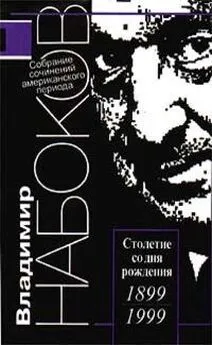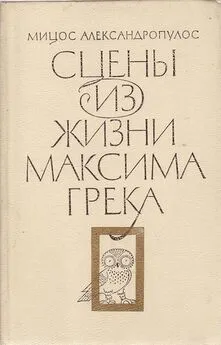Анри Мюрже - Сцены из жизни богемы
- Название:Сцены из жизни богемы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Мюрже - Сцены из жизни богемы краткое содержание
Анри (1822-61 года), французский писатель. Книга «Сцены из жизни богемы» (1851 г.) послужила основой для оперы Дж. Пуччини «Богема» (1896 г.).
Проблема выбора – одна из вечных проблем, актуальная ныне как никогда. «Нельзя одновременно служить Богу и Маммоне», – гласит Евангелие (Маммона – воплощение земных благ, богатства, потребностей желудка). Герои романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы» (1851 г.) и написанной на его сюжет в 1885 году Джакомо Пуччини оперы «Богема» вопреки нищете однажды и навсегда сделали свой выбор в пользу искусства, творчества, любви. «Благоприятные условия. Их для художника нет. Жизнь сама – неблагоприятное условие. Всякое творчество – перебарывание, перемалывание, переламывание жизни – самой счастливой. И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия, быть может, самые благоприятные», – так в 1922 году определила Марина Цветаева проблему выбора для Артиста в эссе о художнице Наталье Гончаровой
Сцены из жизни богемы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
– Не чудо ли это? – заключил Родольф.
А друг его, которому были прекрасно знакомы и по рассказам и по собственному опыту все переживания человека, испытавшего разочарование в любви, ответил:
– Нет, дорогой мой, никакого чуда тут нет, это довольно обычная история. То, что случилось с вами, случалось и со мной. Когда любимая женщина становится нашей подругой, нам уже больше нет дела до того, что она собой представляет в действительности. Мы смотрим на нее не только глазами влюбленного, но и глазами поэта. Подобно тому как живописец набрасывает на манекен королевскую порфиру или усеянную звездами фату небесной девы, так и мы достаем из сокровищницы нашей фантазии сверкающие одеяния и белоснежные туники и набрасываем на плечи какого-нибудь тупоумного, сварливого и злого создания. А когда это создание предстанет перед нами в наряде, каким в мечтах мы облекали свою возлюбленную, мы сразу же поддаемся иллюзии. Первую попавшуюся женщину мы принимаем за воплощение своей мечты и говорим с ней на возвышенном языке, который ей совершенно непонятен.
Когда же та, перед которой мы преклоняемся, сама срывает с себя царственный убор и обнажает перед нами все свои пороки и низменные наклонности, когда она кладет нашу руку себе на грудь, где уже не бьется сердце, да, быть может, никогда и не билось, когда она откидывает фату и мы видим ее угасший взор, блеклый рот, увядшие черты,– тогда мы вновь закутываем ее фатой и кричим: «Ты лжешь! Ты лжешь! Я люблю тебя, и ты тоже меня любишь. В этой белоснежной груди трепещет юное горячее сердце… Я люблю тебя, и ты меня любишь! Ты прекрасна, ты молода. В глубинах твоего порочного сердца таится любовь. Я люблю тебя, и ты меня любишь!»
И вот наконец, как бы мы ни завязывали себе глаза, нам становится ясно, что мы – жертва жестокого заблуждения, и тогда мы изгоняем несчастное создание, которое еще накануне чтили как божество. Мы отнимаем у него златотканые покрывала нашей мечты, которые завтра же накинем на плечи какой-нибудь неизвестной, и она в тот же миг преобразится в окруженную сиянием богиню. И все мы таковы, все мы – чудовищные эгоисты, в сущности, мы любим любовь ради нее самой. Вы меня понимаете, не правда ли? И мы пьем этот божественный напиток из первого подвернувшегося бокала.
Мне даст любой сосуд изведать опьяненье.
– Все, что вы сказали, верно, как дважды два – четыре,– согласился Родольф.
– Да,– отвечал тот,– верно и печально, как очень многие истины. Всего хорошего.
Два дня спустя Мими узнала, что у Родольфа появилась любовница. Мими полюбопытствовала только об одном, а именно: целует ли Родольф своей новой приятельнице руки столь же часто, как целовал ей?
– Совершенно так же,– ответил Марсель.– Более того, он не расстается с ней, пока не перецелует каждый ее волосок.
– Хорошо, что ему не приходило в голову поступать так со мной, а то мы никогда бы с ним не расстались,– сказала Мими, приглаживая свои густые волосы.– Скажите, а вы верите, что он действительно разлюбил меня?
– Конечно! А вы – вы все еще его любите?
– Да я вообще никогда его не любила.
– Любили, любили, Мими! Любили, когда сердце ваше искало пристанища. Любили! И не отрицайте этого, потому что в этом ваше единственное оправдание.
– Будет вам!– Мими.– Теперь он любит другую!
– Так оно и есть,– согласился Марсель,– но это еще ничего не значит. Пройдет время, и воспоминание о вас станет для него чем-то вроде цветов, которые мы кладем в книгу свежими и душистыми, а много лет спустя находим мертвыми, бесцветными и сухими, но от них все еще исходит еле уловимый аромат.
Однажды вечером, когда Мими что-то тихонько напевала, сидя возле виконта Поля, он спросил:
– Что это вы поете, дорогая?
– Это надгробный плач над нашей любовью, который недавно сочинил Родольф. И она запела:
Мой друг Мими, я без гроша, в кармане,
И мне порвать с тобой велит закон,
И ты меня забудешь без рыданий,
Как платья прошлогоднего фасон.
Но все ж мы были счастливы с тобою.
И ярким днем, и в тишине ночей.
Все кончилось, так суждено судьбою,
Ведь быстролётна радость в жизни сей.
XXI
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
Молодой человек, словно соскочивший со страницы «Покрывала Ириды» – побритый, напомаженный, завитой, с усами штопором, в перчатках, со стеком в руках, с моноклем в глазу, цветущий, помолодевший, положительно красавец,– таким вы могли бы увидеть ноябрьским вечером нашего друга поэта Родольфа. Он стоял на бульваре, поджидая карету, чтобы отправиться домой.
Родольф ждет карету? Что же за катаклизм произошел в его жизни?
В то время как преображенный поэт покручивал ус, покусывая огромную сигару и пленяя взоры проходивших мимо красоток, по бульвару шагал его приятель. То был философ Гюстав Коллин. Родольф заметил его и сразу же узнал, да и всякий, кто хоть раз видел Коллина, не мог его не узнать. Философ, по обыкновению, тащил добрую дюжину книг. На нем было все то же бессмертное ореховое пальто, прочность которого наводила на мысль, что оно создано руками древних римлян, на голове красовалась знаменитая широкополая шляпа, прозванная шлемом Мамбрина новейшей философии,– касторовый купол, под которым гудел целый рой гиперфизических бредней.
Коллин медленно брел, бормоча предисловие к своему трактату, который уже три месяца печатался… в его воображении. Философ направлялся к тому месту, где стоял Родольф, и на миг ему показалось, что он узнал поэта. Однако небывалая элегантность Родольфа сразу же вызвала у Коллина сомнения.
– Родольф в перчатках, с тросточкой! Вздор! Бред! Обман зрения! Родольф завитой! Да у него и волос-то на голове раз-два, и обчелся. Видно, я совсем рехнулся. К тому же мой бедный друг убит горем и, верно, сейчас сочиняет элегические строки на уход мадемуазель Мими, которая, говорят, с ним расплевалась. Право же, мне жаль девушку, она как-то особенно варила кофей, а кофей – излюбленный напиток глубокомысленных людей. Но я надеюсь, что Родольф утешится и вскоре заведет новую «кофейницу».
Этот плоский каламбур показался Коллину верхом остроумия, и он охотно бы крикнул самому себе «бис», если бы… суровый голос философии не прервал его фривольные шутки.
Однако, когда Коллин остановился возле Родольфа, все его сомнения рассеялись: перед ним стоял Родольф – завитой, в перчатках, со стеком в руке. Явление совершенно невозможное, и все же то была действительность.
– Да, да! Черт возьми, я не ошибаюсь! – говорил Коллин.– Это ты, я уверен.
– И я тоже в этом уверен,– ответил Родольф.
Тут Коллин стал разглядывать приятеля, и на лице его появилось выражение, какое господин Лебрен, королевский живописец, придает лицам, когда хочет изобразить удивление. Но вдруг он заметил у Родольфа два странных предмета: во-первых, веревочную лестницу, во-вторых, клетку, в которой копошилась какая-то птица. Тут на лице Гюстава Коллина отобразилось некое чувство, которое господин Лебрен, королевский живописец, забыл изобразить на картине под названием «Страсти».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: