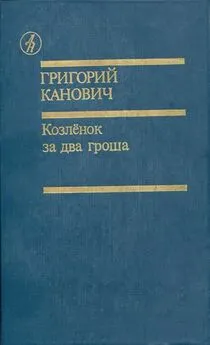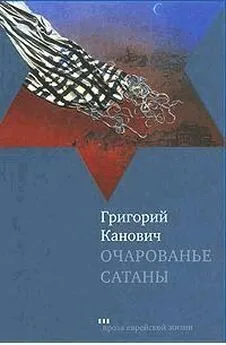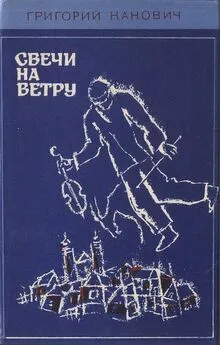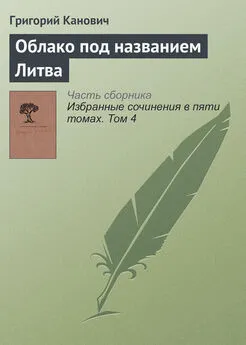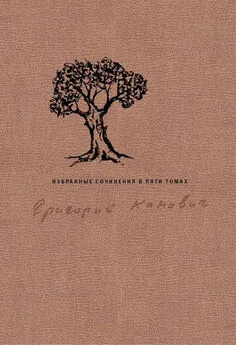Григорий Канович - Козленок за два гроша
- Название:Козленок за два гроша
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Известия
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:5-206-00064-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Канович - Козленок за два гроша краткое содержание
В основу романа Григория Кановича положена история каменотеса Эфраима Дудака и его четверых детей. Автор повествует о предреволюционных событиях 1905 года в Литве.
Козленок за два гроша - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Шмуле-Сендер боязливо глянул на телегу, как бы прося у Авнера прощения. У живого ли, у мертвого ли — неважно, но нищий не возражал.
Дождь падал на его маленькую неспелую тыковку, которой, как показалось Шмуле-Сендеру, уже больше не суждено родить ни одного семечка мысли.
— Я поскакал! — крикнул Эфраим и, отчаявшись оседлать гнедую, побрел пешком.
— Куда ты? Куда ты? — завопил Шмуле-Сендер, обращаясь неизвестно к кому — то ли к Авнеру, то ли к старику Эфраиму.
Они похоронили его в тот же вечер.
Эфраим самолично вырыл яму. Он не позволил погребальной братии даже прикоснуться к лопате.
Шмуле-Сендер стоял в сторонке и вытирал глаза.
— Если смерть — участь всех, — шептал он, — если все кончается в могиле, зачем вообще быть человеком?
Ужас исказил его лицо, когда старик Эфраим, склонившись над могилой, бросил в яму горсть изюма и горсть корицы.
В могиле, как в бакалейной лавке, запахло колониальными товарами.
Господи, господи, повторял сквозь слезы Шмуле-Сендер, посади его в раю за стол с праведниками и накорми досыта и хлебом, и селедкой, и напои его квасом или вином, сними с него лохмотья и надень на него парчовый кафтан и уложи его в постель без блох, и пусть твои ангелы сторожат его сон до утра, которое не наступает без твоей воли!
Эфраим не плакал. Он усердно охлопывал лопатой желтый песок и думал.
Пройдут годы, может, столетия, и из этого изюма и из этой корицы прорастут кусты винограда и коричное дерево.
Коричное дерево — Авнер Розенталь.
Оно, думал под загробный шелест песка Эфраим, поднимется среди этих старых языческих сосен, среди этих замшелых надгробий, и никаким топором сто не вырубишь, никакими молниями не испепелишь, потому что выросло оно не из земли, а из человеческого сердца, удобренного горестями и страданиями.
Без смерти, думал Эфраим, нет памяти. Но память сильней смерти, ибо смерть торжествует мгновенье, а память — вечно!
Прощай, Авнер Розенталь — нищий, здравствуй, Авнер Розенталь — богач!
IV
Присяжный поверенный Михаил Давыдович Эльяшев частенько ездил в 14-й номер — Виленскую политическую тюрьму — один или со своим помощником, записывавшим его беседы с подзащитными, но с братом арестанта, к тому же служащим в жандармском управлении, он направлялся сюда впервые.
Семен Ефремович терялся в догадках, что же побудило Эльяшева взять к защите дело Гирша, но ничего путного придумать не мог. Поди влезь в хитроумную голову Михаила Давыдовича!
— Надо беречь евреев, — отшучивался Эльяшев. — Нельзя допустить, чтобы из-за царапины на ноженьке его высокопревосходительства генерал-губернатора вашего брата вздернули на виселицу.
Как и все судейские, Михаил Давыдович имел склонность к краснобайству. Говорение доставляло ему ни с чем не сравнимое удовольствие, близкое к тому, какое испытывает от вина алкоголик. Только в отличие от алкоголика Эльяшев никогда не напивался словами, все время тянулся к новым, а когда их не находил, прибегал к высокородной, благозвучной латыни, поражая собеседника не только своей ученостью, но и некой недоступностью, долженствующей засвидетельствовать его исключительность.
Он был одет не по погоде — в клетчатое, свободного покроя пальто, сшитое из отменного английского сукна; на нем было пушистое, несколько легкомысленное кашне и мягкая фетровая шляпа, придававшая ему сходство с каким-нибудь романтическим героем, способным покорять самые черствые сердца.
— Нет свободы для всех, — запальчиво говорил он, косясь на извозчика, заученно нахлестывавшего конягу и мурлыкающего под нос какую-то польскую песенку. — В самой свободной державе всегда будет хоть одна тюрьма. Это только кажется, дорогой, что миром правят какие-то идеи. Вздор!.. Нонсенс! Им правят кишки! Потроха! Все кишки одной идеей не набьешь. У кого-нибудь она все равно вызовет рвоту. Вас рвет от моей идеи, меня — от его, — Михаил Давыдович ткнул пальцем в спину извозчика, — его — от нашей, и так пребудет до скончания века. Вы, конечно, вправе меня спросить, к чему я это говорю? Я это, дорогой, говорю к тому, что ваш Гирш, если он, конечно, хочет выйти сухим из воды, должен принять мои правила игры.
Эльяшев снял свои толстые, в роговой оправе очки, протер стекла и принялся близоруко глядеть по сторонам с таким вниманием, словно впервые попал в Вильно.
— Вряд ли мой брат откажется от своих убеждений, — печально сказал Семен Ефремович, прислушиваясь к незнакомой песне.
— Вы забываете, в какой стране мы живем, — искренне возмутился Михаил Давыдович. Без очков он был похож на откормленного хомяка.
— Разве убеждения зависят от страны обитания?
— Зависят! Еще как зависят! Франция, например, славится своей терпимостью… Германия — своей прусской разборчивостью… Но дело даже не в этом. Дело в том, что убеждения, если угодно, та же игра. У этой лошади, — Эльяшев наклонил вперед голову, — тоже есть убеждения. Тем не менее не она указывает кучеру, куда ехать… За долгие годы жизни я убедился в одной непреложной истине.
Семен Ефремович, видно, не проявил к его истине должного интереса, и Михаил Давыдович с нескрываемой обидой бросил:
— Почему вы не спрашиваете, в какой?
— В какой? — сдался Шахна.
— Стоит ли разрывать цепи на себе, чтобы тут же сковать ими других?
Слова Эльяшева казались какими-то книжными, ненастоящими, не имевшими к Гиршу никакого отношения. Настоящей была только песня извозчика, заунывная, с печальным, коротким, как вздох, припевом. Она правила кучером, который изредка сопровождал свое пенье щелканьем кнута и фельдмаршальским выкриком:
— Но! Холера ясна!
— Да, да, чтобы сковать других!.. Ведь ваш брат только к этому и стремился. Дай ему власть, и он из преследуемого превратится в преследователя, из гонимого в гонителя, из узника в тюремщика.
Семена Ефремовича уже злила проповедническая наставительность Эльяшева. Он, конечно, опытен и хитер. Но Гирша такими штучками не возьмешь. Латыни Гирш не знает. Во Франции не бывал. За свои убеждения готов и на костер, и на плаху.
— Гирш как-то сказал, что кто-то из нас должен быть первым евреем, не сгибающим спины, — пытался охладить пыл Михаила Давыдовича Шахна.
— И вы с ним согласны?
Семен Ефремович задумался. Песня мешала сосредоточиться, в голову упрямо лез припев, уводил куда-то с этих виленских улиц на привислянские луга, к стогам свежескошенного сена, к красивым польским молодкам, напоминающим обольстительную продавщицу из лавки Рытмана.
— Согласен! — выпалил он.
— Напрасно! Совершенно напрасно! Евреем, не сгибающим спины? Где? Здесь? В Российской империи?
— Да!
— Возблагодарим всевышнего, что нас здесь терпят с согнутыми спинами! Геройствовать можно у себя дома!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: